Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie, и принимаете Политику конфиденциальности и Политику обработки персональных данных.

Николай Михайлович Книпович
Русский и советский ученый-океанолог, географ и полярный исследователь
(1862–1939)
Николай Книпович родился 6 апреля 1862 года в Свеаборге (Великое княжество Финляндское). Отец – М. М. Книпович, военный врач, литовец по национальности, из крестьян Ковенской губернии; мать – А. Ф. Книпович, урожденная Моллер, из дворян.
В 1880 году Николай Книпович окончил гельсингфорсскую гимназию, спустя пять лет – физико-математический факультет Петербургского университета. Его учителями были такие выдающиеся ученые, как И. М. Сеченов, В. В. Докучаев, А. Н. Бекетов, Н. П. Вагнер.
В студенческие годы Николай Михайлович увлекся изучением зоологии беспозвоночных. Его университетская кандидатская работа касалась вопросов анатомии и эмбриологии колониальной коловратки Canochilus volvox. В 1885 году по приглашению известного исследователя фауны Каспийского моря О. А. Гримма Книпович принял участие в изучении сельдей и их промысла в дельте Волги. С этих пор Николай Михайлович посвятил свою жизнь морским научно-промысловым исследованиям. [1]
В 1880 году Николай Книпович окончил гельсингфорсскую гимназию, спустя пять лет – физико-математический факультет Петербургского университета. Его учителями были такие выдающиеся ученые, как И. М. Сеченов, В. В. Докучаев, А. Н. Бекетов, Н. П. Вагнер.
В студенческие годы Николай Михайлович увлекся изучением зоологии беспозвоночных. Его университетская кандидатская работа касалась вопросов анатомии и эмбриологии колониальной коловратки Canochilus volvox. В 1885 году по приглашению известного исследователя фауны Каспийского моря О. А. Гримма Книпович принял участие в изучении сельдей и их промысла в дельте Волги. С этих пор Николай Михайлович посвятил свою жизнь морским научно-промысловым исследованиям. [1]
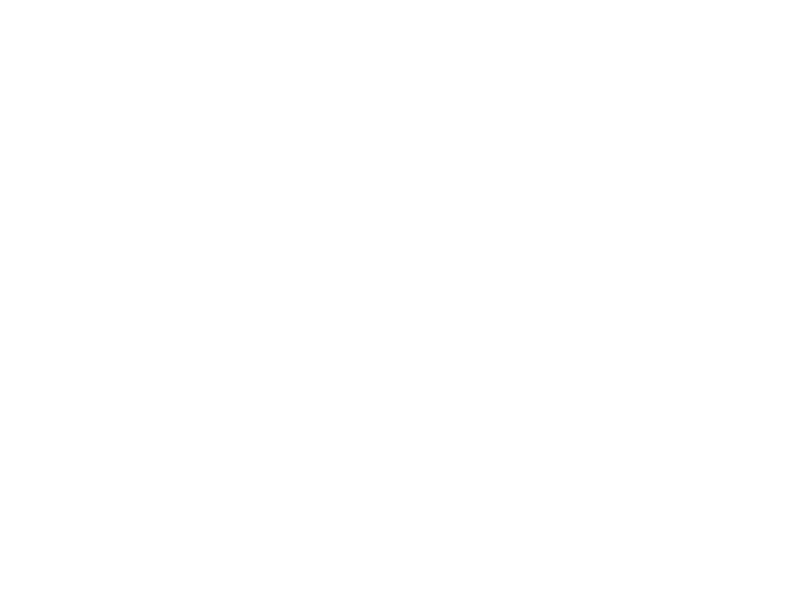
г. Гельсингфорс Финляндия. Источник: Загадочный Север
С 1887 года Книпович работал на биологической станции на Соловецких островах Белого моря, где собрал материалы для магистерской диссертации об усоногих рачках Ascothoracidae – паразитах морских звезд.
В 1893 году вернулся в Петербургский университет в качестве приват-доцента (внештатного преподавателя). В 1894 году Николай Михайлович Книпович поступил на службу в Зоологический музей.
Николай Михайлович был членом комиссии по организации Русской полярной экспедиции.
Книпович был во главе экспедиции, снаряженной в 1897 году на Мурманский берег для научно-промысловых исследований (1898–1901).
Николай Михайлович выступил инициатором строительства научно-исследовательских судов и целой программы обследования арктических морей. Его именем еще при жизни было названо советское научно-исследовательское судно.
В 1893 году вернулся в Петербургский университет в качестве приват-доцента (внештатного преподавателя). В 1894 году Николай Михайлович Книпович поступил на службу в Зоологический музей.
Николай Михайлович был членом комиссии по организации Русской полярной экспедиции.
Книпович был во главе экспедиции, снаряженной в 1897 году на Мурманский берег для научно-промысловых исследований (1898–1901).
Николай Михайлович выступил инициатором строительства научно-исследовательских судов и целой программы обследования арктических морей. Его именем еще при жизни было названо советское научно-исследовательское судно.
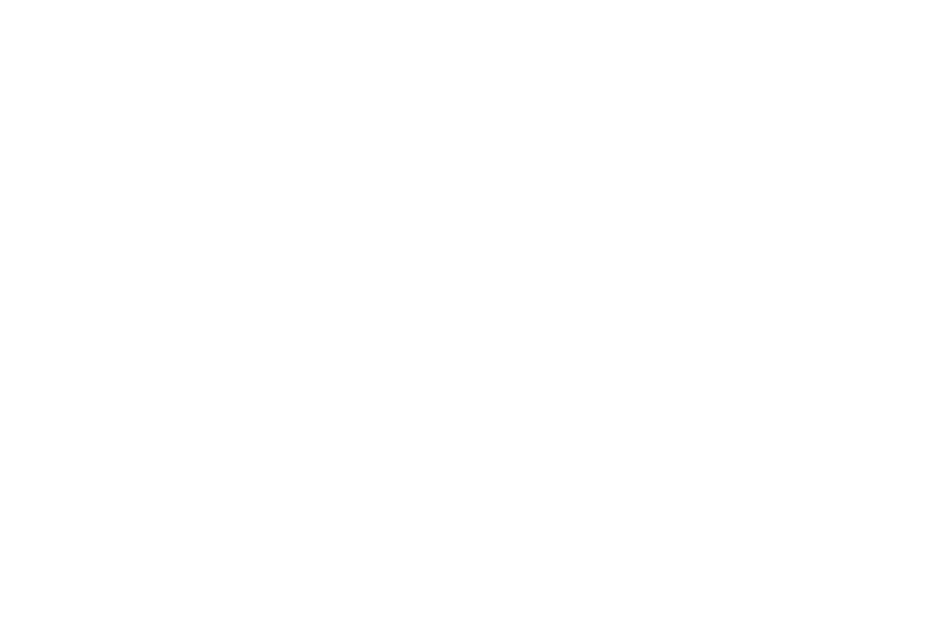
Маркированный конверт Минсвязи СССР 1974 года, посвящённый Н.М. Книповичу
Северная комиссия при Комитете для помощи поморам Русского Севера
Российские правители вспоминали о северных окраинах страны обычно в двух случаях: по геополитическим мотивам (выход к морю, постройка стратегических объектов, поиски энергетических ресурсов) или если случалась какая-либо трагедия. В 1894 году два этих фактора сошлись. Осенью шторм на Белом море погубил двадцать пять кораблей поморов, возвращавшихся с промысла, и множество семей было обездолено.
На помощь северянам пришла общественность. Первыми откликнулись члены Санкт-Петербургского отделения императорского общества для содействия русскому торговому мореходству. Они всегда «участливо относились к нуждам поморского населения – сильного духом, закалённого борьбой с суровой природой и сохранившего в неприкосновенной чистоте бытовые черты русской жизни». 30 декабря 1894 года при Обществе был создан Комитет для помощи поморам Русского Севера. По докладу С.Ю. Витте император Николай II разрешил начать сбор средств для помощи поморам, а для начала выдать Комитету 5 тысяч рублей из казны. Покровителями Комитета для помощи поморам стали великий князь Александр Михайлович и его супруга Ксения Александровна – сестра императора Николая II.
В состав Комитета для помощи поморам Русского Севера (КПП) вошли: председатель – Пётр Александрович Фадеев, заведующий делами Михаил Фёдорович Мец – председатель Санкт-Петербургского отделения Общества для содействия русскому торговому мореходству (в доме М.Ф. Меца располагался КПП), члены комитета (в разное время): архангельский губернатор Александр Платонович Энгельгардт, отец Иоанн Сергиев (Кронштадтский), генерал Андрей Андреевич Боголюбов – меценат культуры, знаток Севера (патрон художника А. Борисова), купец-помор Н.И. Гунин, «непременные члены» К.К. де Риппас, К.И. Михайлов, Ф.Н. Чернышёв и др.
Из Устава Императорского Общества Судоходства следовало, что Комитет для помощи поморам Русского Севера состоит при этом обществе на следующих условиях:
«Комитет действует вполне самостоятельно, озабочивается распространением своей деятельности на всё население, занимающиеся промыслами на водах Империи», использует собранный им капитал для оказания помощи семьям погибших поморов «назначением единовременных и пожизненных пенсий, а в особых случаях предоставлением нуждающимся поморам ссуд». Помимо филантропический деятельности, Комитету предписывалось также «всестороннее изучение быта поморов и проектирование мер, способствующих развитию их промыслов и, вообще, благоустройству Русского Севера».
Север России в конце XIX века представлял собой, по выражению современника, «пасынка Российской империи». Ещё более метко дал характеристику ситуации один из архангельских губернаторов: «на Русском севере царствует административный и экономический хаос, убивающий развитие жизни богатого края». И не потому, что на Севере Европы нельзя было жить достойно: в соседней Норвегии были хорошие шоссейные и пешеходные дороги, пароходное сообщение, в посёлках – все блага цивилизации: школы, магазины, телеграф, отели, банки, театры, аптеки, столовые и даже фотоателье. На русском Мурмане в селениях не были ни дорог, ни средств связи. По мнению исследователя севера Г.Ф. Гебеля, жизнь на Русском Мурмане могли бы оживить следующие мероприятия: «усиленная колонизация Мурмана беломорскими рыбаками, зимнее пароходство, соединение …становищ с остальным миром телеграфом, учреждение должности рыбного инспектора, ссуды для образования рыбацких артелей, увеличение числа маяков, башен, бакенов, обозначающих фарватеры, проверка морских карт, устройство молов, организация спасательной части в открытом море, устройство кредитного учреждения на Мурмане».
Для решения хотя бы части этих вопросов при КПП была учреждена Северная комиссия.
Комплекс мер, предложенных Северной комиссией Комитета для помощи поморам Русского севера, был весьма обширен и… несколько утопичен. Вот что предполагалось провести в жизнь (перечень приводится по документам начала ХХ в. и частично в оригинальном правописании).
К первоочередным мерам было отнесено:
«Помощь пострадавшим на море и осиротевшим семействам:
Второй эшелон мер был направлен на «развитие северного флота:
1. содействие судостроению,
2. страхование судов,
3. кредит под суда,
4. торговый кредит,
5. высшее училище мореходства и судоходства,
6. охрана леса для судостроения,
7. облегчение судоходства в отношении таможенных порядков».
Третья категория мер была связана с «улучшением условий плавания в северных водах:
Четвёртый раздел программы значился как «Морские и речные промыслы:
Кроме того, отдельными параграфами в проектах деятельности Северной комиссии КПП входили вопросы развития Мурмана («русское заселение, зимние и сухопутные сообщения, канал на перешейке Рыбачьего полуострова, устройство складов, школ, бань, врачебная помощь, издание описаний Мурмана), а также Печорского края и новоземельских промыслов, охраны морских территориальных вод Русского Севера, морских сообщений с Обью и Енисеем и многое другое.
В 1896 году в сотав Северной комиссии вошли видные деятели науки: академики Б.Б. Голицын, Ф.Н. Чернышёв, М.А. Рыкачёв, профессора А.А. Бялыницкий-Бируля, Г.И. Танфильев, И.Б. Шпиндлер, В.В. Заленский, Н.М. Книпович (секретарь комиссии), генеральный консул в Норвегии А.А. Теттерман, а также военный гидрограф М.Е. Жданко (автор книги «Очерк гидрографических работ, исполненных в Ледовитом океане летом 1894 года». Кстати, его племянница – Ерминия Жданко – участвовала в экспедиции Г. Брусилова на шхуне «Св.Анна»). Северной комиссией были определены неотложные меры для улучшения экономического положения Русского Севера. Как писала пресса, на добровольные пожертвования заинтересованных людей Комиссия планировала «произвести всесторонние систематические исследования, каковых до сих пор … не производилось».
Главным детищем Северной комиссии КПП с 1897 года стала научно-промысловая экспедиция на Мурман. Следует оговориться, что идея эта Комитету не принадлежала, и если бы научно-исследовательская работа учёных и практическая деятельность Комитета протекали отдельно, вполне возможно, успешными были бы оба предприятия. Но то, что экспедицию поручили патронировать КПП, привело к гибели самого Комитета.
На помощь северянам пришла общественность. Первыми откликнулись члены Санкт-Петербургского отделения императорского общества для содействия русскому торговому мореходству. Они всегда «участливо относились к нуждам поморского населения – сильного духом, закалённого борьбой с суровой природой и сохранившего в неприкосновенной чистоте бытовые черты русской жизни». 30 декабря 1894 года при Обществе был создан Комитет для помощи поморам Русского Севера. По докладу С.Ю. Витте император Николай II разрешил начать сбор средств для помощи поморам, а для начала выдать Комитету 5 тысяч рублей из казны. Покровителями Комитета для помощи поморам стали великий князь Александр Михайлович и его супруга Ксения Александровна – сестра императора Николая II.
В состав Комитета для помощи поморам Русского Севера (КПП) вошли: председатель – Пётр Александрович Фадеев, заведующий делами Михаил Фёдорович Мец – председатель Санкт-Петербургского отделения Общества для содействия русскому торговому мореходству (в доме М.Ф. Меца располагался КПП), члены комитета (в разное время): архангельский губернатор Александр Платонович Энгельгардт, отец Иоанн Сергиев (Кронштадтский), генерал Андрей Андреевич Боголюбов – меценат культуры, знаток Севера (патрон художника А. Борисова), купец-помор Н.И. Гунин, «непременные члены» К.К. де Риппас, К.И. Михайлов, Ф.Н. Чернышёв и др.
Из Устава Императорского Общества Судоходства следовало, что Комитет для помощи поморам Русского Севера состоит при этом обществе на следующих условиях:
«Комитет действует вполне самостоятельно, озабочивается распространением своей деятельности на всё население, занимающиеся промыслами на водах Империи», использует собранный им капитал для оказания помощи семьям погибших поморов «назначением единовременных и пожизненных пенсий, а в особых случаях предоставлением нуждающимся поморам ссуд». Помимо филантропический деятельности, Комитету предписывалось также «всестороннее изучение быта поморов и проектирование мер, способствующих развитию их промыслов и, вообще, благоустройству Русского Севера».
Север России в конце XIX века представлял собой, по выражению современника, «пасынка Российской империи». Ещё более метко дал характеристику ситуации один из архангельских губернаторов: «на Русском севере царствует административный и экономический хаос, убивающий развитие жизни богатого края». И не потому, что на Севере Европы нельзя было жить достойно: в соседней Норвегии были хорошие шоссейные и пешеходные дороги, пароходное сообщение, в посёлках – все блага цивилизации: школы, магазины, телеграф, отели, банки, театры, аптеки, столовые и даже фотоателье. На русском Мурмане в селениях не были ни дорог, ни средств связи. По мнению исследователя севера Г.Ф. Гебеля, жизнь на Русском Мурмане могли бы оживить следующие мероприятия: «усиленная колонизация Мурмана беломорскими рыбаками, зимнее пароходство, соединение …становищ с остальным миром телеграфом, учреждение должности рыбного инспектора, ссуды для образования рыбацких артелей, увеличение числа маяков, башен, бакенов, обозначающих фарватеры, проверка морских карт, устройство молов, организация спасательной части в открытом море, устройство кредитного учреждения на Мурмане».
Для решения хотя бы части этих вопросов при КПП была учреждена Северная комиссия.
Комплекс мер, предложенных Северной комиссией Комитета для помощи поморам Русского севера, был весьма обширен и… несколько утопичен. Вот что предполагалось провести в жизнь (перечень приводится по документам начала ХХ в. и частично в оригинальном правописании).
К первоочередным мерам было отнесено:
«Помощь пострадавшим на море и осиротевшим семействам:
- сбор пожертвований,
- учреждение местных попечительств,
- устройство приютов,
- страхование судовой команды,
- распространение дела помощь населению, занимающемуся морскими промыслами».
Второй эшелон мер был направлен на «развитие северного флота:
1. содействие судостроению,
2. страхование судов,
3. кредит под суда,
4. торговый кредит,
5. высшее училище мореходства и судоходства,
6. охрана леса для судостроения,
7. облегчение судоходства в отношении таможенных порядков».
Третья категория мер была связана с «улучшением условий плавания в северных водах:
- обстановка морскими знаками и устройство маяков,
- издание морских карт,
- устройство гаваней,
- спасательные средства,
- издание метеорологических и гидрологических сведений».
Четвёртый раздел программы значился как «Морские и речные промыслы:
- научные исследования,
- издание описаний промысловых животных (зверей, рыб, птиц и пр.),
- издание промысловых карт и руководств,
- охрана промысловых богатств,
- инспекция рыбных и звериных промыслов,
- рассылка промысловых телеграмм,
- улучшение способов лова рыбы и заготовление рыбных продуктов,
- обеспечение промышленников хлебом и солью,
- склады рыболовных снастей и страховка их,
- снабжение промышленников наживкой,
- содействие морскому звериному промыслу,
- снабжение ружьями для звериных промыслов,
- содействие жемчужному и др. промыслам,
- сбыт продуктов промысла,
- выработка типов промысловых судов,
- содействие постройке этих судов,
- устройство промышленных станов и бань,
- устройство рыбацких артелей,
- рыбацкие школы и курсы,
- заботы о зуйках.
Кроме того, отдельными параграфами в проектах деятельности Северной комиссии КПП входили вопросы развития Мурмана («русское заселение, зимние и сухопутные сообщения, канал на перешейке Рыбачьего полуострова, устройство складов, школ, бань, врачебная помощь, издание описаний Мурмана), а также Печорского края и новоземельских промыслов, охраны морских территориальных вод Русского Севера, морских сообщений с Обью и Енисеем и многое другое.
В 1896 году в сотав Северной комиссии вошли видные деятели науки: академики Б.Б. Голицын, Ф.Н. Чернышёв, М.А. Рыкачёв, профессора А.А. Бялыницкий-Бируля, Г.И. Танфильев, И.Б. Шпиндлер, В.В. Заленский, Н.М. Книпович (секретарь комиссии), генеральный консул в Норвегии А.А. Теттерман, а также военный гидрограф М.Е. Жданко (автор книги «Очерк гидрографических работ, исполненных в Ледовитом океане летом 1894 года». Кстати, его племянница – Ерминия Жданко – участвовала в экспедиции Г. Брусилова на шхуне «Св.Анна»). Северной комиссией были определены неотложные меры для улучшения экономического положения Русского Севера. Как писала пресса, на добровольные пожертвования заинтересованных людей Комиссия планировала «произвести всесторонние систематические исследования, каковых до сих пор … не производилось».
Главным детищем Северной комиссии КПП с 1897 года стала научно-промысловая экспедиция на Мурман. Следует оговориться, что идея эта Комитету не принадлежала, и если бы научно-исследовательская работа учёных и практическая деятельность Комитета протекали отдельно, вполне возможно, успешными были бы оба предприятия. Но то, что экспедицию поручили патронировать КПП, привело к гибели самого Комитета.
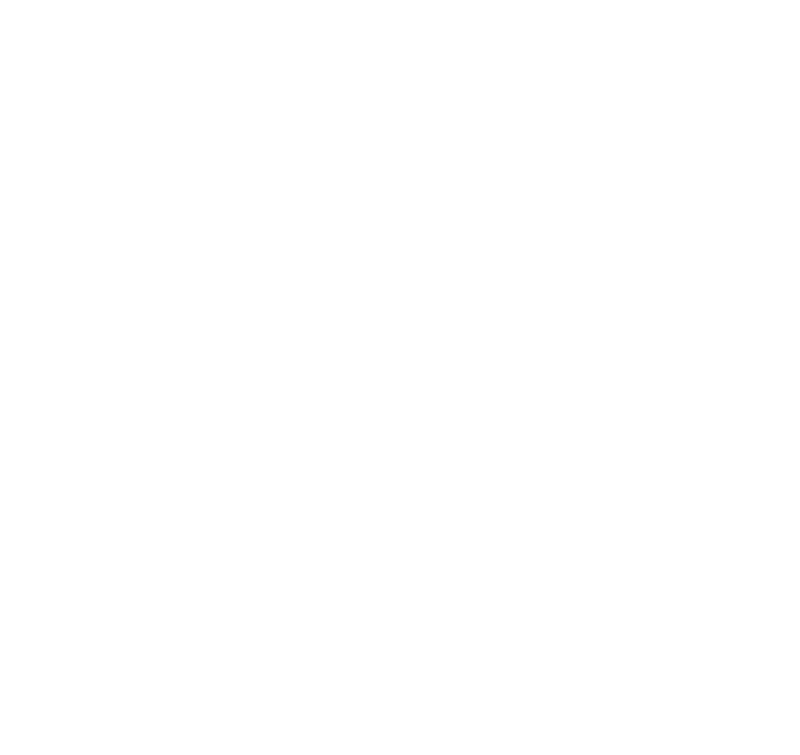
Вне сомнения, проведение научно-исследовательских изысканий в морях Арктики и научно-промысловых исследований на Арктическом побережье Лапландии было необходимо. Данный вопрос обсуждался на собрании Общества для содействия русскому торговому мореходству, куда был приглашён великий князь Александр Михайлович. Члены общества (Н.А. Варпаховский) приводили примеры государства Европы, где правительство не скупится на расходы на морские научно-промысловые исследования. Но на заявление о Северной Америке, где Конгресс ассигновал около 1 миллиона рублей комиссии для изучения и развития рыбного дела, князь Александр Михайлович парировал, что там используются военные суда («Альбатрос» и «Фиш Хок»), то есть большую часть расходов покрывает морское министерство. На севере России предполагалась вести научную работу «на казённый счёт» и за счёт сборов Комитета помощи поморам. Император Николай II распорядился выдать из казначейства 150 тысяч рублей.
Во главе экспедиции был поставлен молодой (30 лет!) учёный Николай Михайлович Книпович. Он предполагал производство «изследований зоологических, гидрологических, гидрографических и метеорологических» и лишь по полном завершении программы обещал составить промысловую карту Мурманского моря. Кстати, северяне ставили в вину экспедиции, что, дескать, «с легкой руки» её начальника их море стали называть на европейский манер Баренцевым (на самом деле это название официально принято с 1853 года). Но главное обвинение прозвучало спустя несколько лет, когда стало ясно, что практическую помощь поморам в промысловой деятельности учёные оказывать не торопились и вообще интересы мировой науки ставили выше нужд земляков. Рыбаки-поморы рассуждали так: Вот ведь, добрый царь-батюшка отвалил денег нам на поморскую «нужду» (Комитет же назывался «для помощи ПОМОРАМ»!), а мальчишки эти деньги разбазаривают, да ещё и «вражинам» сведения о «нашей» рыбе отправляют!
Николай Книпович и правда для начала отправился набираться опыта за границу, побывал в Дании, Северной Германии, Норвегии, Великобритании, и Международный Совет по изучению морей поручил ему проводить изыскания в Арктике. На деньги, выделенные КПП для экспедиции, в 1899 году в Германии было построено судно «Андрей Первозванный» – первое в России и мире (!) научно-исследовательское судно. Судно было построено по новейшим образцам – с электричеством и паровым отоплением в каютах. На нём были оборудованы лаборатории и за годы работы Мурманской экспедиции были обследованы миграции рыб, океанические течения: температура, солёность, плотность, прозрачность воды содержание газов, определены рельефы дна и характер грунта, измерены глубины водных просторов Арктики. Таким образом, была заложена научная база изучения Северного Ледовитого океана.
Во главе экспедиции был поставлен молодой (30 лет!) учёный Николай Михайлович Книпович. Он предполагал производство «изследований зоологических, гидрологических, гидрографических и метеорологических» и лишь по полном завершении программы обещал составить промысловую карту Мурманского моря. Кстати, северяне ставили в вину экспедиции, что, дескать, «с легкой руки» её начальника их море стали называть на европейский манер Баренцевым (на самом деле это название официально принято с 1853 года). Но главное обвинение прозвучало спустя несколько лет, когда стало ясно, что практическую помощь поморам в промысловой деятельности учёные оказывать не торопились и вообще интересы мировой науки ставили выше нужд земляков. Рыбаки-поморы рассуждали так: Вот ведь, добрый царь-батюшка отвалил денег нам на поморскую «нужду» (Комитет же назывался «для помощи ПОМОРАМ»!), а мальчишки эти деньги разбазаривают, да ещё и «вражинам» сведения о «нашей» рыбе отправляют!
Николай Книпович и правда для начала отправился набираться опыта за границу, побывал в Дании, Северной Германии, Норвегии, Великобритании, и Международный Совет по изучению морей поручил ему проводить изыскания в Арктике. На деньги, выделенные КПП для экспедиции, в 1899 году в Германии было построено судно «Андрей Первозванный» – первое в России и мире (!) научно-исследовательское судно. Судно было построено по новейшим образцам – с электричеством и паровым отоплением в каютах. На нём были оборудованы лаборатории и за годы работы Мурманской экспедиции были обследованы миграции рыб, океанические течения: температура, солёность, плотность, прозрачность воды содержание газов, определены рельефы дна и характер грунта, измерены глубины водных просторов Арктики. Таким образом, была заложена научная база изучения Северного Ледовитого океана.
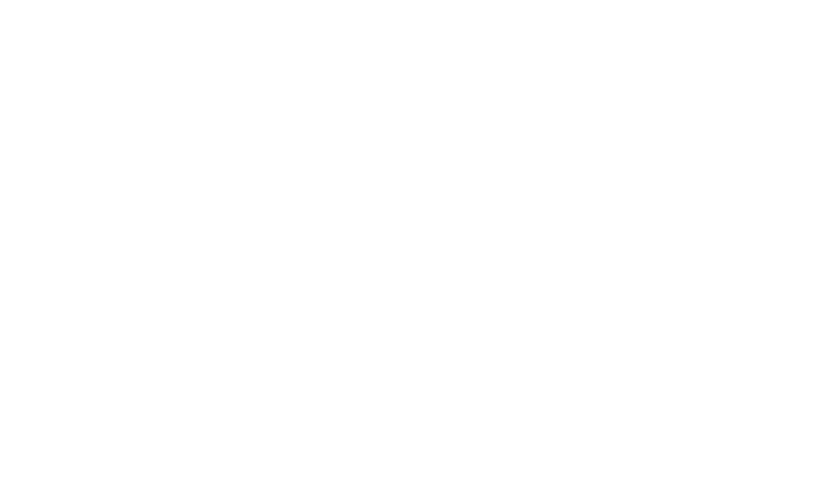
Источник: Загадочный Север
Своими исследованиями Николай Михайлович доказал наличие огромных запасов рыбных ресурсов Баренцева моря и необходимость усовершенствования промысловых судов и способов лова. Именно во второй части выводов экспедиции (о методах рыболовства) и крылась разгадка парадокса: если рыбы в море много, то – странное дело! – отчего же бедствовали поморы? Почему эта рыба им не доставалась?
Северная комиссия изучила способы поморских промыслов и сделала вывод: поморам необходим траловый флот. Чтобы показать пример применения новых методов и мест лова, Комитет для помощи поморам Русского Севера купил в 1898 году в Норвегии рыболовецкое парусное судно – куттер, которое назвали символично – «Помор». Капитаном на судне был потомственный помор Григорий Иванович Поспелов, команду набрали из архангельских моряков. И действительно: весенний лов у берега был неудачен, а «Помор», который ловил ярусом в 175 верстах, вернулся с отличным уловом палтуса. Один из участников «разведочной экспедиции» (К.П. Ягодовский) вспоминал:
«У берегов рыбы нет, и промышленники сидят без дела. Добыли наживки (покупать у норвежцев пришлось), собираем яруса, и поморы чуть не хохочут над нами! Рыбы, мол, нет..! …Отошли мы на верст 100 от берега и на сравнительно короткие яруса наловили 80 пудов…самой лучшей мурманской рыбы!»
Кроме «показательного» лова, судно «Помор» занималось еще и зоологическими, гидрологическими и другими исследованиями. А на следующий год класс показал уже пароход «Андрей Первозванный», также сочетавший промысел (тралом!) с научной работой. Траектория походов плавучей лаборатории была от берегов Мурмана до высоких широт, от российских границ до Новой Земли. В течение первых семи лет работы Мурманская научно-промысловая экспедиция измерила 1337 глубин, сделала 940 гидрологических станций-остановок с выполнением целого комплекса научных работ.
Николай Михайлович Книпович опубликовал несколько работ в зарубежных изданиях. Русские поморы не могли, конечно, читать эти статьи, а вот их зарубежные коллеги прочитали… И ринулись «на рыбалку» в тёплые течения Гольфстрима в Баренцевом море. На промысел в год приходило до 20 английский судов! Кроме того, браконьеры из стран Европы в те же года истребляли китов и били зверя у российских берегов Арктики. По свидетельству М.Е. Жданко (он проводил гидрологические исследования в Баренцевом море) в 1893 году у Мурманского берегам были арестованы шесть норвежских шхун, трюмы которых были набиты шкурами молодых тюленей, добытых на российской территории. А англичане, кстати, не только ловили рыбу в Северном Ледовитом океане, но и наживались на продаже соли – «ливерпульки», которая была очень плохого качества (в ней было 40% химических примесей) и портила улов поморов. Снабжение наживкой оказалось в руках норвежского купца Кнюцена. Ещё одного иностранца – Гильфельда – называли королём западного Мурмана: он скупал здесь всю рыбу. Патриотическая российская общественность не раз поднимала вопрос иностранного «засилья» на Мурмане.
Таким образом, Мурманская экспедиция выяснила: для того, чтобы поднять жизненный уровень поморов (имеются в виду только те поморы, что занимались промыслом или жили на Мурмане, в других частях Севера России поморы жили весьма зажиточно и стабильно), нужны новые суда, усовершенствованные технологии лова и посола рыбы, а также снабжение поморов картами, орудиями лова, наживкой, тарой и качественной солью. О том, чтобы почистить берега, где так ужасны были «миазмы от гниющих тут же органических остатков» от чистки улова речи даже не шло. А представьте себе, сколько отходов оставалось гнить на берегах, если, например, в Териберской губе нередко скапливалось до 150 рыболовных судов с 800 промысловиками и до 20 грузовых кораблей, в самом многолюдном становище Гаврилова – до 400 судов с 2000 рыбаков, в мелких – по 10–40 судов…
Северная комиссия изучила способы поморских промыслов и сделала вывод: поморам необходим траловый флот. Чтобы показать пример применения новых методов и мест лова, Комитет для помощи поморам Русского Севера купил в 1898 году в Норвегии рыболовецкое парусное судно – куттер, которое назвали символично – «Помор». Капитаном на судне был потомственный помор Григорий Иванович Поспелов, команду набрали из архангельских моряков. И действительно: весенний лов у берега был неудачен, а «Помор», который ловил ярусом в 175 верстах, вернулся с отличным уловом палтуса. Один из участников «разведочной экспедиции» (К.П. Ягодовский) вспоминал:
«У берегов рыбы нет, и промышленники сидят без дела. Добыли наживки (покупать у норвежцев пришлось), собираем яруса, и поморы чуть не хохочут над нами! Рыбы, мол, нет..! …Отошли мы на верст 100 от берега и на сравнительно короткие яруса наловили 80 пудов…самой лучшей мурманской рыбы!»
Кроме «показательного» лова, судно «Помор» занималось еще и зоологическими, гидрологическими и другими исследованиями. А на следующий год класс показал уже пароход «Андрей Первозванный», также сочетавший промысел (тралом!) с научной работой. Траектория походов плавучей лаборатории была от берегов Мурмана до высоких широт, от российских границ до Новой Земли. В течение первых семи лет работы Мурманская научно-промысловая экспедиция измерила 1337 глубин, сделала 940 гидрологических станций-остановок с выполнением целого комплекса научных работ.
Николай Михайлович Книпович опубликовал несколько работ в зарубежных изданиях. Русские поморы не могли, конечно, читать эти статьи, а вот их зарубежные коллеги прочитали… И ринулись «на рыбалку» в тёплые течения Гольфстрима в Баренцевом море. На промысел в год приходило до 20 английский судов! Кроме того, браконьеры из стран Европы в те же года истребляли китов и били зверя у российских берегов Арктики. По свидетельству М.Е. Жданко (он проводил гидрологические исследования в Баренцевом море) в 1893 году у Мурманского берегам были арестованы шесть норвежских шхун, трюмы которых были набиты шкурами молодых тюленей, добытых на российской территории. А англичане, кстати, не только ловили рыбу в Северном Ледовитом океане, но и наживались на продаже соли – «ливерпульки», которая была очень плохого качества (в ней было 40% химических примесей) и портила улов поморов. Снабжение наживкой оказалось в руках норвежского купца Кнюцена. Ещё одного иностранца – Гильфельда – называли королём западного Мурмана: он скупал здесь всю рыбу. Патриотическая российская общественность не раз поднимала вопрос иностранного «засилья» на Мурмане.
Таким образом, Мурманская экспедиция выяснила: для того, чтобы поднять жизненный уровень поморов (имеются в виду только те поморы, что занимались промыслом или жили на Мурмане, в других частях Севера России поморы жили весьма зажиточно и стабильно), нужны новые суда, усовершенствованные технологии лова и посола рыбы, а также снабжение поморов картами, орудиями лова, наживкой, тарой и качественной солью. О том, чтобы почистить берега, где так ужасны были «миазмы от гниющих тут же органических остатков» от чистки улова речи даже не шло. А представьте себе, сколько отходов оставалось гнить на берегах, если, например, в Териберской губе нередко скапливалось до 150 рыболовных судов с 800 промысловиками и до 20 грузовых кораблей, в самом многолюдном становище Гаврилова – до 400 судов с 2000 рыбаков, в мелких – по 10–40 судов…
Память
С 1904 года Николай Михайлович занимался педагогической деятельностью. Он состоял профессором зоологии в Медицинском институте, в Педагогическом институте им. Герцена, в Психоневрологическом институте и других вузах страны.
В 1921 году Книпович принял участие в Северной научно-промысловой экспедиции как руководитель ихтиологического отряда Баренцева моря. Совершил ряд каспийских экспедиций (1886–1932), Балтийскую (1902), Азово‑Черноморскую (1922–1927).
Когда Николаю Михайловичу исполнилось 73 года, он вышел в море в последний раз. Это случилось в 1935 в Баренцевом море на научно-исследовательском судне «Николай Книпович».
Умер ученый: зоолог, ихтиолог, океанолог, географ, доктор биологических наук; академик АН СССР (с 1935 года), организатор и основоположник рыбохозяйственных исследований на Севере Николай Михайлович Книпович в Ленинграде 23 февраля 1939 года. Похоронен на Смоленском кладбище, а позже его прах перенесли на Литераторские мостки. [1]
В честь Николая Михайловича Книповича Э.В. Толль назвал бухту, на мысе которой 15 октября 1900 года устроил во время похода с А. В. Колчаком продовольственный склад, сначала ошибочно приняв оную за фьорд Гафнера.
Именем Николая Книповича также названы подводный хребет в Северном Ледовитом океане; мыс Книпович, самая северная точка острова Виктория в Баренцевом море; залив в Карском море; гора в Антарктиде; траулер (1960) и научно-промысловое судно «Академик Книпович» (1964); моторно-парусный бот «Николай Книпович» (1928); сейнер «Профессор Книпович» (1951); Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н. М. Книповича в Мурманске и род рыб семейства бычковых Knipowitschia .
Книпович первым описал схему течений Чёрного моря, в которой выделяются два огромных замкнутых круговорота. В честь него схема получила название «Очки Книповича». [2]
В 1921 году Книпович принял участие в Северной научно-промысловой экспедиции как руководитель ихтиологического отряда Баренцева моря. Совершил ряд каспийских экспедиций (1886–1932), Балтийскую (1902), Азово‑Черноморскую (1922–1927).
Когда Николаю Михайловичу исполнилось 73 года, он вышел в море в последний раз. Это случилось в 1935 в Баренцевом море на научно-исследовательском судне «Николай Книпович».
Умер ученый: зоолог, ихтиолог, океанолог, географ, доктор биологических наук; академик АН СССР (с 1935 года), организатор и основоположник рыбохозяйственных исследований на Севере Николай Михайлович Книпович в Ленинграде 23 февраля 1939 года. Похоронен на Смоленском кладбище, а позже его прах перенесли на Литераторские мостки. [1]
В честь Николая Михайловича Книповича Э.В. Толль назвал бухту, на мысе которой 15 октября 1900 года устроил во время похода с А. В. Колчаком продовольственный склад, сначала ошибочно приняв оную за фьорд Гафнера.
Именем Николая Книповича также названы подводный хребет в Северном Ледовитом океане; мыс Книпович, самая северная точка острова Виктория в Баренцевом море; залив в Карском море; гора в Антарктиде; траулер (1960) и научно-промысловое судно «Академик Книпович» (1964); моторно-парусный бот «Николай Книпович» (1928); сейнер «Профессор Книпович» (1951); Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н. М. Книповича в Мурманске и род рыб семейства бычковых Knipowitschia .
Книпович первым описал схему течений Чёрного моря, в которой выделяются два огромных замкнутых круговорота. В честь него схема получила название «Очки Книповича». [2]
Автор: Чуракова Ольга Владимировна, доцент кафедры отечественной истории САФУ
[1] Загадочный Север
[2] Википедия

