Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie, и принимаете Политику конфиденциальности и Политику обработки персональных данных.

Ирина Алексеевна Ильющенкова
Полярный синоптик: «У прогнозов стопроцентной оправдываемости нет, и, скорее всего, не будет»
Окончила Гидрометеорологический университет, работает в ААНИИ и пишет диссертацию про атмосферные процессы на Шпицбергене
Ирина Алексеевна Ильющенкова – младший научный сотрудник Отдела ледового режима и прогнозов Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Выпускница Гидрометеорологического университета. Ездит в высокоширотные экспедиции с 2019 года. Занимается составлением метеорологических прогнозов. Закончила аспирантуру в ААНИИ, сейчас работает над кандидатской диссертацией.
Начало пути
Именно об Арктике Ирина в детстве не мечтала, но ей нравилась география в целом. Ей хотелось путешествовать и изучать природное разнообразие нашей планеты. Поэтому она заранее знала, с чем будет связана её будущая профессия.
«Когда я оканчивала школу в 2009 году, ввели ЕГЭ. Я сдавала как раз ЕГЭ по географии и могла поступать на географические факультеты, в том числе в Гидрометеорологический университет. Поэтому я начала смотреть направления, связанные с географией – либо геологию, либо метеорологию. Я поступала на два факультета, но в итоге мой выбор остановился на метеорологии».
«Когда я оканчивала школу в 2009 году, ввели ЕГЭ. Я сдавала как раз ЕГЭ по географии и могла поступать на географические факультеты, в том числе в Гидрометеорологический университет. Поэтому я начала смотреть направления, связанные с географией – либо геологию, либо метеорологию. Я поступала на два факультета, но в итоге мой выбор остановился на метеорологии».

Арктикой Ирина начала интересоваться во время учёбы в университете. В ААНИИ работал её научный руководитель, а сама она, ещё будучи студенткой, два года принимала участие в программе подготовки кадров Арктического и антарктического института. Здесь же писала свою дипломную работу.
«Меня район очень интересовал. Тут атмосферные процессы очень отличаются от умеренных широт в полярных. Поэтому я дальше пошла уже работать сюда сразу после института. Меня пригласили в лабораторию, и я устроилась на должность ведущего инженера. Начала работать с долгосрочными и краткосрочными прогнозами по арктическим морям».
Здесь же, в ААНИИ, Ирина закончила аспирантуру и получила квалификацию преподавателя-исследователя. Сейчас пишет кандидатскую диссертацию.
«Диссертация моя – про атмосферные процессы на Шпицбергене. Я исследовала аномально-холодные, аномально-теплые зимы и летние периоды на Шпицбергене: за счет чего они формировались, какие атмосферные процессы повлияли, чтобы такая экстремальная температура возникла».
При этом, по словам Ирины, после окончания аспирантуры её учёба не закончилась. Работа в Арктическом и антарктическом институте подразумевает постоянное самообразование, которое необходимо, чтобы идти в ногу со временем.
«Я доучиваюсь до сих пор и продолжу делать это всю свою жизнь, потому что меняются технологии, у нас вводится новое программное обеспечение, новые приборы, новые методики. Ничего не стоит на месте. Даже методики прогнозирования, которые были 10 лет назад, модернизируются. Поэтому стоять на месте и пользоваться только теми знаниями, которые я получила в университете, — это не так продуктивно. Нужно всё время двигаться, следить, как всё меняется. Тем более, у нас научный институт, нужно постоянно следить, что происходит в научном сообществе, какие разработки, какие методики актуальны. Я однозначно могу сказать, что в процессе всё время нужно развиваться».
«Меня район очень интересовал. Тут атмосферные процессы очень отличаются от умеренных широт в полярных. Поэтому я дальше пошла уже работать сюда сразу после института. Меня пригласили в лабораторию, и я устроилась на должность ведущего инженера. Начала работать с долгосрочными и краткосрочными прогнозами по арктическим морям».
Здесь же, в ААНИИ, Ирина закончила аспирантуру и получила квалификацию преподавателя-исследователя. Сейчас пишет кандидатскую диссертацию.
«Диссертация моя – про атмосферные процессы на Шпицбергене. Я исследовала аномально-холодные, аномально-теплые зимы и летние периоды на Шпицбергене: за счет чего они формировались, какие атмосферные процессы повлияли, чтобы такая экстремальная температура возникла».
При этом, по словам Ирины, после окончания аспирантуры её учёба не закончилась. Работа в Арктическом и антарктическом институте подразумевает постоянное самообразование, которое необходимо, чтобы идти в ногу со временем.
«Я доучиваюсь до сих пор и продолжу делать это всю свою жизнь, потому что меняются технологии, у нас вводится новое программное обеспечение, новые приборы, новые методики. Ничего не стоит на месте. Даже методики прогнозирования, которые были 10 лет назад, модернизируются. Поэтому стоять на месте и пользоваться только теми знаниями, которые я получила в университете, — это не так продуктивно. Нужно всё время двигаться, следить, как всё меняется. Тем более, у нас научный институт, нужно постоянно следить, что происходит в научном сообществе, какие разработки, какие методики актуальны. Я однозначно могу сказать, что в процессе всё время нужно развиваться».
Первые экспедиции
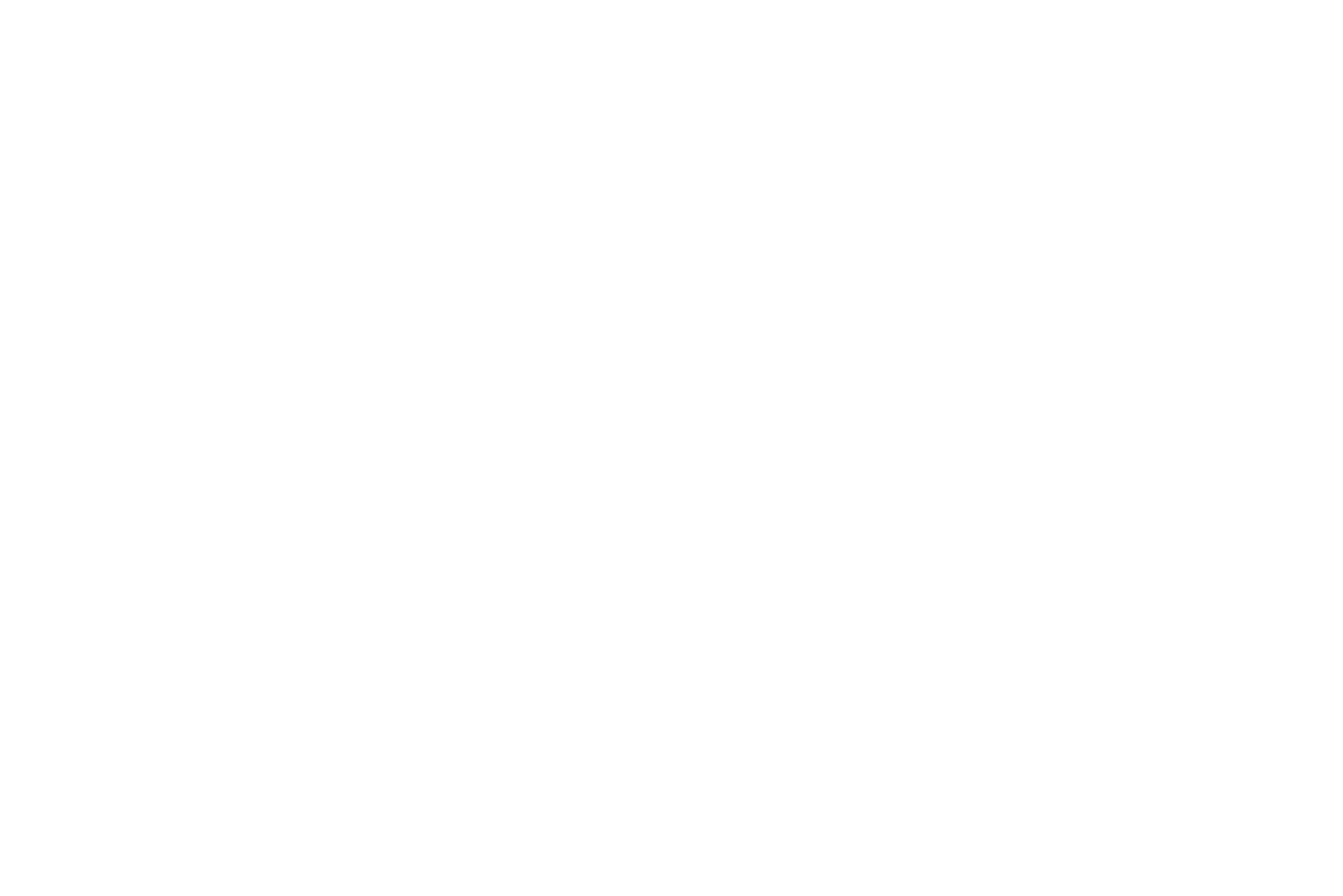
В свою первую высокоширотную экспедицию Ирина отправилась только через пять лет работы в институте. Она понимала, что автономная работа в Арктике – это большая ответственность, и у участников экспедиций нет права на ошибку. Поэтому перед первой поездкой Ирина решила сначала набраться опыта.
«Меня немного пугали экспедиции, холодные места, сложность работы, ответственность. Когда я представляла экспедицию, понимала, что полностью ответственность за прогноз будет лежать на мне. А здесь [в институте] я работала в команде, когда коллеги на начальных этапах могли мне чем-то помочь. Если у меня был какой-то вопрос по составлению прогноза, я могла всегда обратиться и получить совет. Но потом я уже поняла, что, когда я поеду в экспедицию, полностью нужно быть готовой и уверенной в себе, что я могу составить прогноз, ответственно к этому подходить. Я очень волновалась перед своей первой экспедицией и тщательно [к ней] готовилась».
Когда Ирина решила, что подготовилась к поездке достаточно, то присоединилась к экспедиции «ТрансАрктика». Это было в 2019 году.
«Мы шли в район к северу от земли Франца Иосифа, это Северный Ледовитый океан. Вышли из Мурманска, пересекли Баренцево море, зашли во льды к северу от архипелага и выбрали место для дрейфа. Суть нашей экспедиции была в дрейфе – чтобы вмерзнуть в лед и вместе со льдом дрейфовать, отслеживать траекторию, выполнять научные исследования. Мы работали на судне "Академик Трёшников", плюс выставляли домики на льду около судна – геофизический домик, метеорологическую станцию».
«Меня немного пугали экспедиции, холодные места, сложность работы, ответственность. Когда я представляла экспедицию, понимала, что полностью ответственность за прогноз будет лежать на мне. А здесь [в институте] я работала в команде, когда коллеги на начальных этапах могли мне чем-то помочь. Если у меня был какой-то вопрос по составлению прогноза, я могла всегда обратиться и получить совет. Но потом я уже поняла, что, когда я поеду в экспедицию, полностью нужно быть готовой и уверенной в себе, что я могу составить прогноз, ответственно к этому подходить. Я очень волновалась перед своей первой экспедицией и тщательно [к ней] готовилась».
Когда Ирина решила, что подготовилась к поездке достаточно, то присоединилась к экспедиции «ТрансАрктика». Это было в 2019 году.
«Мы шли в район к северу от земли Франца Иосифа, это Северный Ледовитый океан. Вышли из Мурманска, пересекли Баренцево море, зашли во льды к северу от архипелага и выбрали место для дрейфа. Суть нашей экспедиции была в дрейфе – чтобы вмерзнуть в лед и вместе со льдом дрейфовать, отслеживать траекторию, выполнять научные исследования. Мы работали на судне "Академик Трёшников", плюс выставляли домики на льду около судна – геофизический домик, метеорологическую станцию».

Первые впечатления об Арктике Ирина запомнила на всю жизнь, потому что впервые столкнулась с таким морозом.
«Мне было все интересно, я хотела запечатлеть все моменты, всё, что я видела, все льды. И когда мы вышли на лед, я была с аппаратом и делала фотографии. Я сняла перчатки, чтобы было удобно, но пока я фотографировала, руки окоченели, был ветер, достаточно умеренный, где-то 10-12 метров [в секунду], и минус 25 температура. Руки окоченели, я этого не почувствовала. То есть это за минуты произошло, и когда я хотела руки спрятать в куртку, я уже не могла расстегнуть карман, потому что пальцы не слушались полностью, замок не могла расстегнуть. И хорошо, что коллеги помогли, заметили, и мне помогли справиться и согреть руки. Все хорошо закончилось».
Первая экспедиция Ирины длилась два месяца. А самой длительной поездкой стал поход в Антарктиду на судне «Академик Фёдоров» – он занял целых полгода.
«Для меня это казалось так долго, когда я собиралась в экспедицию. Но на самом деле быстро пролетело время – шесть месяцев, день за днем, в работе всё. Я когда собиралась в экспедицию, встретилась с коллегами, спросила, как у них проходят дни на судне. Они сказали, что спокойно день за днем живёшь, и проходят дни. Раз – и конец экспедиции. Я сама в этом тоже убедилась, как работа поглощает».
«Мне было все интересно, я хотела запечатлеть все моменты, всё, что я видела, все льды. И когда мы вышли на лед, я была с аппаратом и делала фотографии. Я сняла перчатки, чтобы было удобно, но пока я фотографировала, руки окоченели, был ветер, достаточно умеренный, где-то 10-12 метров [в секунду], и минус 25 температура. Руки окоченели, я этого не почувствовала. То есть это за минуты произошло, и когда я хотела руки спрятать в куртку, я уже не могла расстегнуть карман, потому что пальцы не слушались полностью, замок не могла расстегнуть. И хорошо, что коллеги помогли, заметили, и мне помогли справиться и согреть руки. Все хорошо закончилось».
Первая экспедиция Ирины длилась два месяца. А самой длительной поездкой стал поход в Антарктиду на судне «Академик Фёдоров» – он занял целых полгода.
«Для меня это казалось так долго, когда я собиралась в экспедицию. Но на самом деле быстро пролетело время – шесть месяцев, день за днем, в работе всё. Я когда собиралась в экспедицию, встретилась с коллегами, спросила, как у них проходят дни на судне. Они сказали, что спокойно день за днем живёшь, и проходят дни. Раз – и конец экспедиции. Я сама в этом тоже убедилась, как работа поглощает».
Работа вдали от дома
Ирина вообще старается не ездить в длительные командировки, поскольку женщинам тяжелее совмещать экспедиционную деятельность и семейные обязанности.
«Конечно, это очень сложный вопрос, наверное, в каждой семье это решается по-разному. Всё-таки я пришла к мнению, что экспедиция – это мужская работа. Я думаю, что все-таки такие длительные экспедиции – это именно для мужчин. Они могут легче их переносить, а женщина должна домашний очаг беречь. Я хотела бы продолжить получать такой опыт, но не в таких длинных экспедициях – [чтобы они длились] не полгода, не год, а были непродолжительными».
Впрочем, полностью отказываться от участия в полевых исследованиях Ирина не собирается. Ведь для учёных-метеорологов Арктика является уникальным регионом для изучения.
«Сейчас происходят такие процессы, которым часто не найти аналогов за прошедшие 100 лет. Я имею дело с долгосрочными прогнозами, и наша методика в Арктическом и антарктическом институте основана на поиске гомологов [временных периодов со схожими метеорологическими процессами]. До 2000 года эта методика очень хорошо работала: находишь гомолог, по нему составляешь прогноз, и была неплохая оправдываемость. Сейчас [происходят] такие уникальные процессы, которых не найти вообще за 100 лет. Как начались метеорологические наблюдения в конце 19 века и шли весь 20 век – таких просто нет. Прошлой весной в Санкт-Петербурге повысилась температура до 26 градусов: плюс 26 в апреле! Это рекордное значение, такого не было. Также и в Арктике есть некоторые значения температуры, которых не было на всем ряду наблюдений. Как составлять прогноз достаточно большой? Это вызывает много трудностей… Атмосферные процессы всё-таки меняются, у нас больше уникальных процессов становится, экстремальных каких-то повышений [температуры]».
«Конечно, это очень сложный вопрос, наверное, в каждой семье это решается по-разному. Всё-таки я пришла к мнению, что экспедиция – это мужская работа. Я думаю, что все-таки такие длительные экспедиции – это именно для мужчин. Они могут легче их переносить, а женщина должна домашний очаг беречь. Я хотела бы продолжить получать такой опыт, но не в таких длинных экспедициях – [чтобы они длились] не полгода, не год, а были непродолжительными».
Впрочем, полностью отказываться от участия в полевых исследованиях Ирина не собирается. Ведь для учёных-метеорологов Арктика является уникальным регионом для изучения.
«Сейчас происходят такие процессы, которым часто не найти аналогов за прошедшие 100 лет. Я имею дело с долгосрочными прогнозами, и наша методика в Арктическом и антарктическом институте основана на поиске гомологов [временных периодов со схожими метеорологическими процессами]. До 2000 года эта методика очень хорошо работала: находишь гомолог, по нему составляешь прогноз, и была неплохая оправдываемость. Сейчас [происходят] такие уникальные процессы, которых не найти вообще за 100 лет. Как начались метеорологические наблюдения в конце 19 века и шли весь 20 век – таких просто нет. Прошлой весной в Санкт-Петербурге повысилась температура до 26 градусов: плюс 26 в апреле! Это рекордное значение, такого не было. Также и в Арктике есть некоторые значения температуры, которых не было на всем ряду наблюдений. Как составлять прогноз достаточно большой? Это вызывает много трудностей… Атмосферные процессы всё-таки меняются, у нас больше уникальных процессов становится, экстремальных каких-то повышений [температуры]».

Конечно, экспедиции – это сложная работа, но сейчас женщины всё чаще принимают в них участие. Прогресс уже достиг такого уровня, что для поездки в Арктику больше не нужны особая физическая подготовка и умение преодолевать тяготы и лишения.
«Я работала на судне, там достаточно комфортные условия, мы в тепле были, в хорошей тёплой одежде. Конечно, нужно медкомиссию пройти, физическую подготовку [иметь]. Физическое здоровье очень важно, потому что, если есть какие-то проблемы, нужно заранее с ними разобраться и пройти медкомиссию. Но я думаю, что сейчас условия и на станциях, и на судне достаточно комфортные, поэтому переживать по этому поводу не стоит. Как боцман шутил на судне, когда я спрашивала, есть ли там что-то по хозяйству – он говорил, что на судне есть всё. Заходишь в кладовку боцмана, а там все хозяйственные принадлежности: там одежда, обувь. То есть даже если ты что-то забыл, боцман может помочь. Ну конечно, на антарктических станциях ситуация сложнее, туда завоз один раз в год, потом, возможно, поставки какие-то самолетами есть, но вот то, что ты привез туда, тем ты год и пользуешься. В Арктике сейчас и на дрейфующих станциях очень хорошо, мне кажется, условия очень комфортные».
«Я работала на судне, там достаточно комфортные условия, мы в тепле были, в хорошей тёплой одежде. Конечно, нужно медкомиссию пройти, физическую подготовку [иметь]. Физическое здоровье очень важно, потому что, если есть какие-то проблемы, нужно заранее с ними разобраться и пройти медкомиссию. Но я думаю, что сейчас условия и на станциях, и на судне достаточно комфортные, поэтому переживать по этому поводу не стоит. Как боцман шутил на судне, когда я спрашивала, есть ли там что-то по хозяйству – он говорил, что на судне есть всё. Заходишь в кладовку боцмана, а там все хозяйственные принадлежности: там одежда, обувь. То есть даже если ты что-то забыл, боцман может помочь. Ну конечно, на антарктических станциях ситуация сложнее, туда завоз один раз в год, потом, возможно, поставки какие-то самолетами есть, но вот то, что ты привез туда, тем ты год и пользуешься. В Арктике сейчас и на дрейфующих станциях очень хорошо, мне кажется, условия очень комфортные».
Глобальные цели
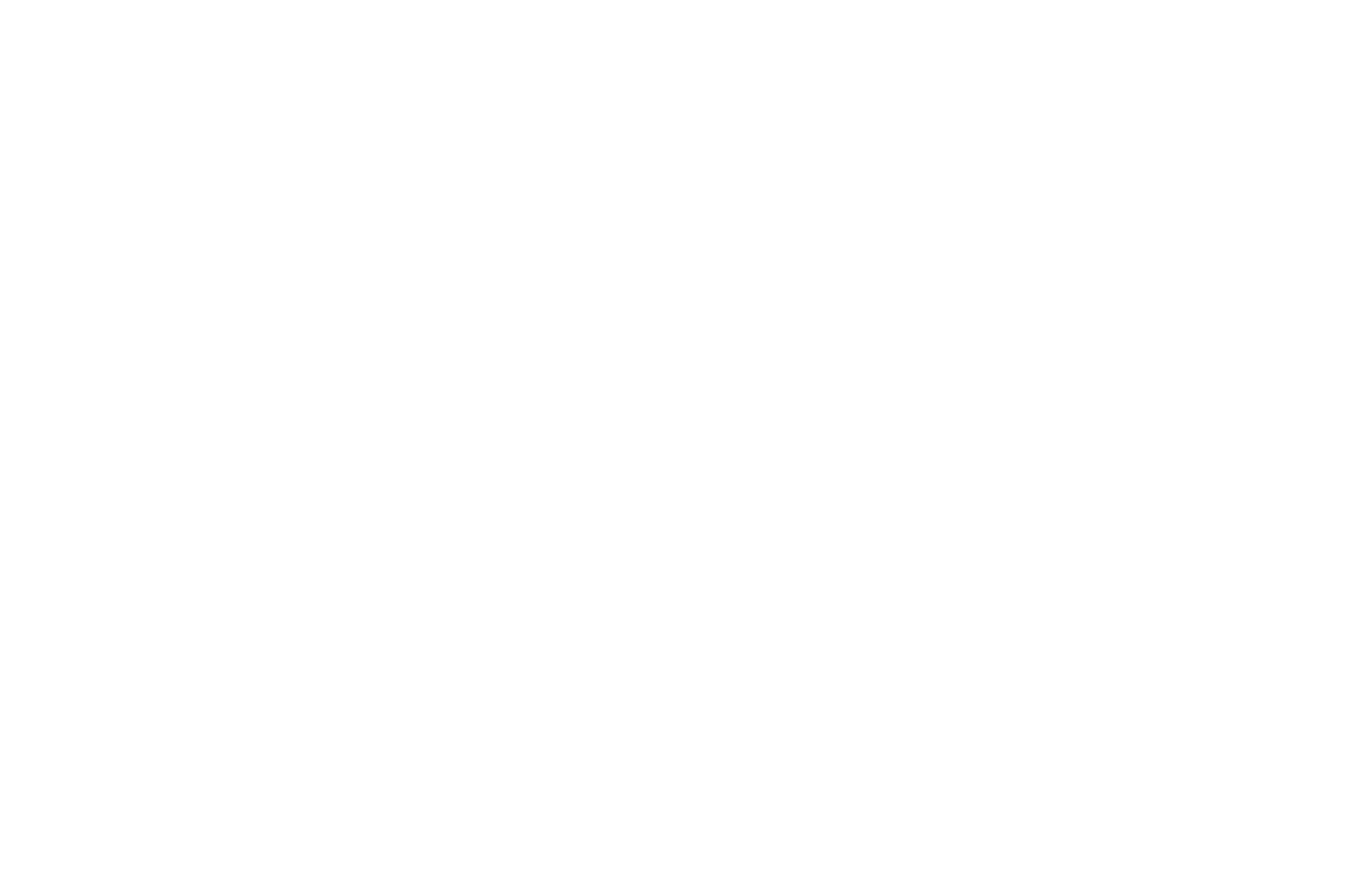
По словам Ирины, за годы работы в Арктическом и антарктическом институте она стала неотъемлемой его частью и не видит себя в какой-то другой профессиональной сфере.
«Я настолько уже полюбила наш институт, вжилась в эту атмосферу, в эти полярные районы, и пока я не представляю свою жизнь, чтобы я не имела дела с Арктикой и с научными исследованиями, прогнозами, пока что настолько влюблена в свою профессию, что не задумывалась, чтобы поменять кардинально что-то».
«Я настолько уже полюбила наш институт, вжилась в эту атмосферу, в эти полярные районы, и пока я не представляю свою жизнь, чтобы я не имела дела с Арктикой и с научными исследованиями, прогнозами, пока что настолько влюблена в свою профессию, что не задумывалась, чтобы поменять кардинально что-то».
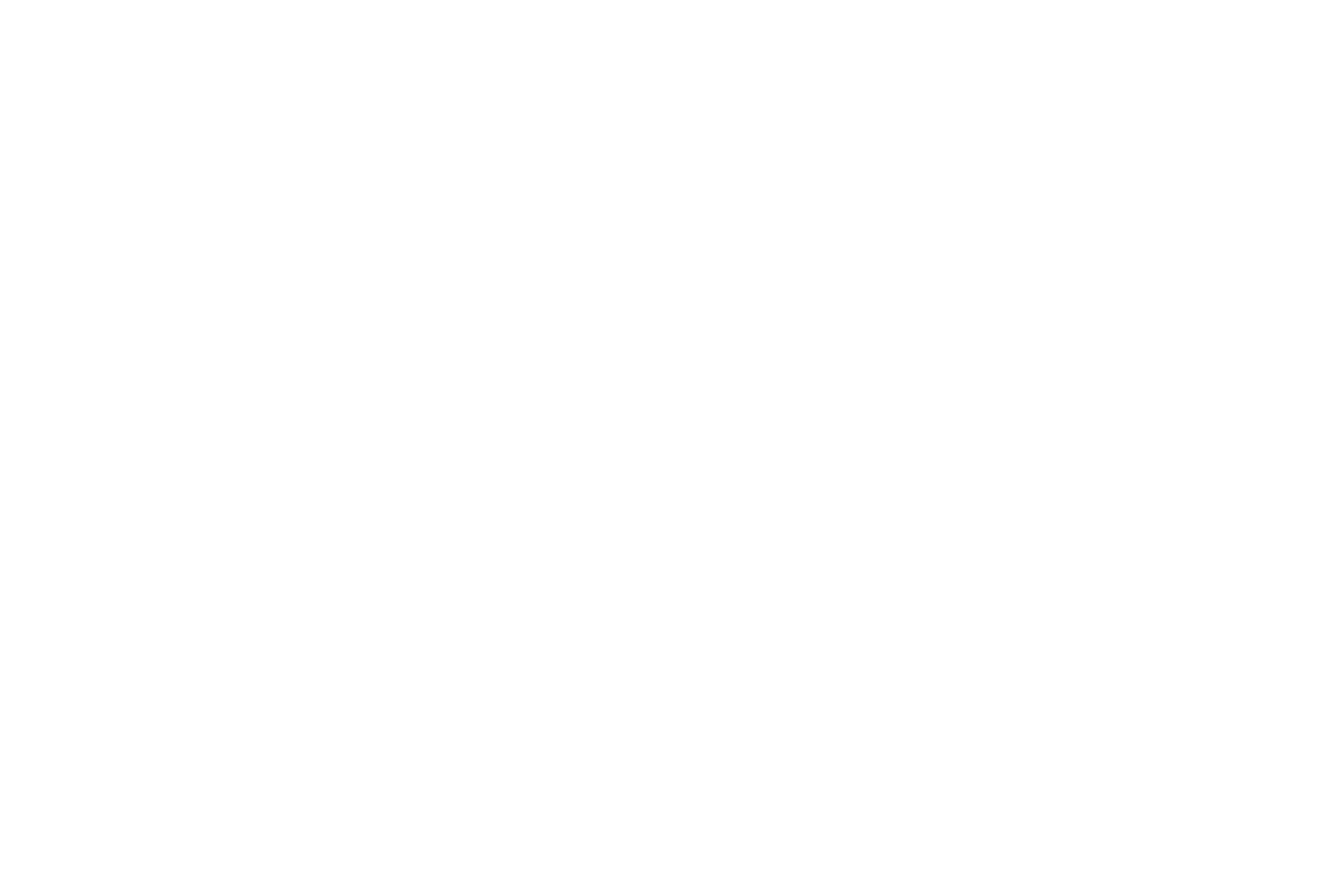
Арктика для Ирины – это неиссякаемый источник данных для научной работы. Основная цель всех метеорологических исследований – повысить достоверность прогнозов. Ведь сейчас долгосрочное прогнозирование сбывается в среднем только на 80%. Краткосрочное – на 90-95%. Стопроцентный результат – это пока что недостижимая цель. Но учёные всё равно к ней стремятся.
«Я думаю, что можно исследовать бесконечно, находить темы даже в прогнозах. У нас сейчас в прогнозах стопроцентной оправдываемости нет, и, скорее всего, никогда не будет. То есть их можно совершенствовать, находить какие-то методы, закономерности, так, чтобы прогноз погоды стал лучшие – что долгосрочный, что краткосрочный. У нас они сейчас не такие идеальные, как хотелось бы, и простор для развития есть. Думаю, что тут больше зависит от исследователя, сколько творчества он в этот процесс вкладывает, чтобы найти районы и процессы, которые можно исследовать. Я думаю, что природа ещё полна интересных явлений. И даже в меняющемся климате экстремальные и уникальные явления – их тоже интересно исследовать, надо только проявлять творчество и интерес».
«Я думаю, что можно исследовать бесконечно, находить темы даже в прогнозах. У нас сейчас в прогнозах стопроцентной оправдываемости нет, и, скорее всего, никогда не будет. То есть их можно совершенствовать, находить какие-то методы, закономерности, так, чтобы прогноз погоды стал лучшие – что долгосрочный, что краткосрочный. У нас они сейчас не такие идеальные, как хотелось бы, и простор для развития есть. Думаю, что тут больше зависит от исследователя, сколько творчества он в этот процесс вкладывает, чтобы найти районы и процессы, которые можно исследовать. Я думаю, что природа ещё полна интересных явлений. И даже в меняющемся климате экстремальные и уникальные явления – их тоже интересно исследовать, надо только проявлять творчество и интерес».
Автор: Максим Упиров, эксперт ПОРА
Фото из личного архива И.А. Ильющенковой
Видео: Проектный офис развития Арктики
Благодарим за помощь в организации съёмок Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт, г. Санкт-Петербург.
Видео: Проектный офис развития Арктики
Благодарим за помощь в организации съёмок Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт, г. Санкт-Петербург.
ГЕРОИ

