Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie, и принимаете Политику конфиденциальности и Политику обработки персональных данных.

Борис Викторович Шергин
«Поморский Гомер»
По его сказкам и былинам снято 15 мультфильмов
По его сказкам и былинам снято 15 мультфильмов
(1893-1973)
Борис Викторович Шергин родился 28 июля 1893 года в Архангельске. Его отец, потомственный мореход и корабельный мастер, передал сыну дар рассказчика и страсть ко всякому «художеству»; мать — коренная архангелогородка, познакомившая его с народной поэзией Русского Севера.
С детства Шергин постигал нравственный уклад, быт и культуру Поморья. Срисовывал орнаменты и заставки старинных книг, учился писать иконы в поморском стиле, расписывал утварь. В школьные годы стал собирать и записывать северные народные сказки, былины и песни. В 1912 году закончил Архангельскую мужскую губернскую гимназию, в 1917 — Строгановское центральноме художественно-промышленное училище.
Работал как художник-реставратор, заведовал художественной частью ремесленной мастерской, внёс вклад в возрождение северных промыслов (в частности, холмогорской техники резьбы по кости), занимался археографической работой (собирал книги «старинного письма», древние лоции, записные тетради шкиперов, альбомы стихов, песенники).
О Борисе Шергине писать нелегко. В какой-то момент начинает казаться, что пишешь о посмертной маске архангельского сказителя, а он сам ускользает. После его лубочных, лиричных, остроумно-поучительных баек и былин невольно начинаешь верить в тот образ благообразного, светящегося изнутри старца, что походя оставили в своих воспоминаниях писатели Леонид Леонов и Владимир Личутин. Но стоит погрузиться в дневники Шергина, вышедшие через 30 лет после его смерти, и, словно под направленным лучом софита, на сцене предстает персонаж из какой-то смутно знакомой, чуть ли не по Достоевскому, пьесы, и поневоле начинаешь узнавать его заново, по сути, знакомиться, перво-наперво привыкая к правильному ударению в фамилии – Шéргин, затем распутывая детектив с годом рождения писателя, который по какой-то причине был на три года завышен его матерью, в бытность ее инспектором Архангельского губернского Совнархоза.
Белым пятном остается время учебы Бориса Шергина в Строгановском художественно-промышленном училище в Москве. По мнению биографа писателя Бориса Егорова, личные документы Шергина из архива училища были изъяты. Также до конца не проясненными остаются обстоятельства, при которых будущий писатель стал инвалидом, лишившись одной ноги и потеряв пальцы на другой. Существуют две версии, опять-таки с разницей в три года. В автобиографии Шергин утверждал, что в 1916 году, проходя службу в «белой армии» (примечательная оговорка, ведь до революции армия называлась царской), во время строительных работ он попал под вагонетку. Согласно другим сведениям, Шергин, мобилизованный во время оккупации Архангельска англо-американскими войсками в 1919 году, получил увечье после неудачного прыжка с трамвая. Об этом происшествии сохранилась заметка в городской газете.
С детства Шергин постигал нравственный уклад, быт и культуру Поморья. Срисовывал орнаменты и заставки старинных книг, учился писать иконы в поморском стиле, расписывал утварь. В школьные годы стал собирать и записывать северные народные сказки, былины и песни. В 1912 году закончил Архангельскую мужскую губернскую гимназию, в 1917 — Строгановское центральноме художественно-промышленное училище.
Работал как художник-реставратор, заведовал художественной частью ремесленной мастерской, внёс вклад в возрождение северных промыслов (в частности, холмогорской техники резьбы по кости), занимался археографической работой (собирал книги «старинного письма», древние лоции, записные тетради шкиперов, альбомы стихов, песенники).
О Борисе Шергине писать нелегко. В какой-то момент начинает казаться, что пишешь о посмертной маске архангельского сказителя, а он сам ускользает. После его лубочных, лиричных, остроумно-поучительных баек и былин невольно начинаешь верить в тот образ благообразного, светящегося изнутри старца, что походя оставили в своих воспоминаниях писатели Леонид Леонов и Владимир Личутин. Но стоит погрузиться в дневники Шергина, вышедшие через 30 лет после его смерти, и, словно под направленным лучом софита, на сцене предстает персонаж из какой-то смутно знакомой, чуть ли не по Достоевскому, пьесы, и поневоле начинаешь узнавать его заново, по сути, знакомиться, перво-наперво привыкая к правильному ударению в фамилии – Шéргин, затем распутывая детектив с годом рождения писателя, который по какой-то причине был на три года завышен его матерью, в бытность ее инспектором Архангельского губернского Совнархоза.
Белым пятном остается время учебы Бориса Шергина в Строгановском художественно-промышленном училище в Москве. По мнению биографа писателя Бориса Егорова, личные документы Шергина из архива училища были изъяты. Также до конца не проясненными остаются обстоятельства, при которых будущий писатель стал инвалидом, лишившись одной ноги и потеряв пальцы на другой. Существуют две версии, опять-таки с разницей в три года. В автобиографии Шергин утверждал, что в 1916 году, проходя службу в «белой армии» (примечательная оговорка, ведь до революции армия называлась царской), во время строительных работ он попал под вагонетку. Согласно другим сведениям, Шергин, мобилизованный во время оккупации Архангельска англо-американскими войсками в 1919 году, получил увечье после неудачного прыжка с трамвая. Об этом происшествии сохранилась заметка в городской газете.
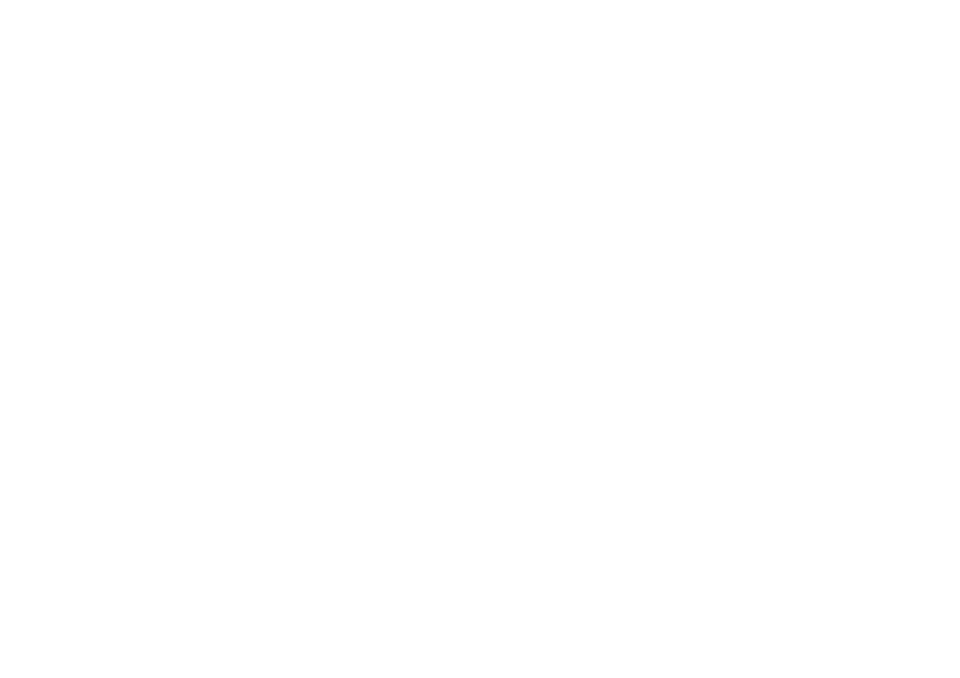
Сказительница М.Д. Кривополенова и Борис Шергин, 1910-е годы
Не меньше вопросов у исследователей к багажу знаний Шергина, нет, не книжных, которых у него, самоучки ломоносовского типа, было в избытке, а исключительно практических, в частности, судя по былинам, автор хорошо знал течения Белого моря, хотя о работе «на кораблях, на пароходах», а также на «лесопильных заводах», упомянутой в дневниках, никаких сведений не сохранилось.
Участие молодого Шергина в этнографической экспедиции МГУ в 1916 по изучению северных говоров также не вполне понятно, ведь он закончил только пять классов гимназии и два курса училища, у него не было ученых работ и он не состоял в штате университета. Впрочем, известно, что Шергина в качестве исполнителя песен приглашал на свои лекции по русской народной словесности профессор МГУ Ю.М. Соколов. Возможно, это сотрудничество помогло Шергину получить место в составе экспедиции.
И, наверное, самая большая загадка Шергина связана с тем, почему он, всю жизнь оставаясь хранителем и миссионером поморской культуры, покинул родину в 1921 году и навсегда осел в Москве. За последующие полвека писатель лишь однажды приезжал в Архангельск, да и то с узко определенной целью – чтобы обновить кресты на могиле родителей.
Обычно биографы связывают переезд Шергина в столицу с поиском заработка. Действительно, он, уже имея опыт выступлений в качества сказителя, смог устроиться на работу в только что организованный̆ Наркомпросом Институт детского чтения, располагавшийся в Сверчковом переулке. Там же на Маросейке, в подвале двухэтажного институтского здания Шергину выделили комнату, в которой ему было суждено прожить 26 лет.
Работа в Институте детского чтения и сделала из Шергина писателя, отчасти поневоле, ведь в его обязанности входили чуть ли не ежедневные выступления со своими северными рассказами в школах, библиотеках, клубах Москвы. По этой причине Шергин решил систематизировать часть своего песенно-былинного репертуара в виде небольших книг, больше похожих на брошюры. Первая, оформленная автором по образцу старинных «лицевых» книг, вышла в 1924 году под названием «У архангельского города, у корабельного пристанища». Еще через несколько лет Шергин выпустил «Шиша Московского» – «скоморошью эпопею о проказах над богатыми и сильными» в духе шутовского романа, которая принесла автору широкую известность. Бориса Шергина стали приглашать на радио, на его произведения обратил внимание А.М. Горький, в середине 1930-х Шергин стал членом Союза писателей. Следующие две книги – «Архангельские новеллы» и «У песенных рек» – были благосклонно приняты критикой и имели значительный читательский успех.
Участие молодого Шергина в этнографической экспедиции МГУ в 1916 по изучению северных говоров также не вполне понятно, ведь он закончил только пять классов гимназии и два курса училища, у него не было ученых работ и он не состоял в штате университета. Впрочем, известно, что Шергина в качестве исполнителя песен приглашал на свои лекции по русской народной словесности профессор МГУ Ю.М. Соколов. Возможно, это сотрудничество помогло Шергину получить место в составе экспедиции.
И, наверное, самая большая загадка Шергина связана с тем, почему он, всю жизнь оставаясь хранителем и миссионером поморской культуры, покинул родину в 1921 году и навсегда осел в Москве. За последующие полвека писатель лишь однажды приезжал в Архангельск, да и то с узко определенной целью – чтобы обновить кресты на могиле родителей.
Обычно биографы связывают переезд Шергина в столицу с поиском заработка. Действительно, он, уже имея опыт выступлений в качества сказителя, смог устроиться на работу в только что организованный̆ Наркомпросом Институт детского чтения, располагавшийся в Сверчковом переулке. Там же на Маросейке, в подвале двухэтажного институтского здания Шергину выделили комнату, в которой ему было суждено прожить 26 лет.
Работа в Институте детского чтения и сделала из Шергина писателя, отчасти поневоле, ведь в его обязанности входили чуть ли не ежедневные выступления со своими северными рассказами в школах, библиотеках, клубах Москвы. По этой причине Шергин решил систематизировать часть своего песенно-былинного репертуара в виде небольших книг, больше похожих на брошюры. Первая, оформленная автором по образцу старинных «лицевых» книг, вышла в 1924 году под названием «У архангельского города, у корабельного пристанища». Еще через несколько лет Шергин выпустил «Шиша Московского» – «скоморошью эпопею о проказах над богатыми и сильными» в духе шутовского романа, которая принесла автору широкую известность. Бориса Шергина стали приглашать на радио, на его произведения обратил внимание А.М. Горький, в середине 1930-х Шергин стал членом Союза писателей. Следующие две книги – «Архангельские новеллы» и «У песенных рек» – были благосклонно приняты критикой и имели значительный читательский успех.
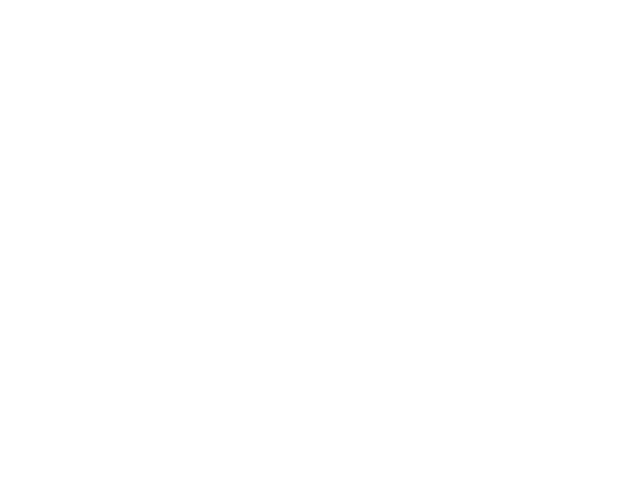
Обложки книг Б. Шергина
Борис Викторович продолжал жить скромно, в подвале родного института (закрыт в 1930 году) с дальним родственником, «богоданным» братом Анатолием Крогом, полностью взявшем на себя заботу об инвалиде, и племянником. Несмотря на то, что Борис Шергин держался в стороне от советского идеологического мейнстрима, в годы Великой Отечественной войны он активно, зачастую превозмогая физические страдания, в том числе вызванные недоеданием, выступал с чтением своих произведений в воинских частях, госпиталях, библиотеках, вузах, школах. «Я тем душу питаю, – писал он в своем дневнике, – в силу беру, что, когда схватит меня горе, я равняюсь по народу моему. Как они горе переносили мужественно и великодушно, так должен и я...».
Репертуарные фольклорные переработки, с которыми Шергин выступал в военные годы, стали основой сборника «Поморщина-корабельщина», вышедшего в 1946 году и сразу же попавшего в жернова печально известного Постановления Оргбюро ЦК ВКП (б) от 14 августа 1946 г. «О журналах “Звезда” и “Ленинград”». Шергина обвинили в консерватизме, воспевании дореволюционного уклада, «грубой стилизации и извращении народной поэзии». Перед писателем закрылись двери издательств, потянулись годы изоляции от читателей и слушателей, безденежья, нищеты. Именно в это время у Шергина стало резко ухудшаться здоровье, прогрессировать слепота.
Что же помогало Борису Викторовичу не только выживать, но изо дня в день садиться за стол, работать и чувствовать полноту жизни? Ответ на этот вопрос, по сути, проясняет тайну всего московского периода Шергина. Она отражена в дневниках писателя. Только этим потаенным страницам он мог доверить свои размышления о Боге, о русских святых, о православии, об одухотворенной природе, о том, как он «заблуждающийся, претыкающий, недоумевающий, незнающий, несведущий, слепотствующий» черпает силы в молитве. Именно вера давала ему пронзительные «минуты ясности и истинности сознания». «В такие минуты ум становится широким и ясным, мысль дальновидной, – писал Шергин. – Отходил труд калечных ног, не нужны были подслепые глазишки и очки, не нужен стариковский костыль». «…С точки зрения «мира сего», я из тех людей, каких называют «несчастными». Еле брожу, еле вижу… Но я думаю: как много кругом несчастья. Как много бедствующих, болящих… Так мало счастливчиков, в такову печаль упал и лежит род человеческий, особливо сынове российские, что в полку сих страдающих спокойнее быть для совести своей. С плачущими, алчущими, изгнанными, скорбящими… Куда почетнее шествовать путь жития своего, нежели попрыгивать со счастливчиками».
Борис Егоров, биограф и издатель дневников Шергина, считает, что «много тайн у него было. Если б в то время знали, что он об этом пишет, расстреляли бы. Он был категорически против «антихристов», которые разрушили храмы, которые пытались лишить народ православной веры. Жизнь его до сих пор не исследована».
Период забвения закончился в 1957 году, когда по просьбе писателя Алексея Югова в подвал к Шергину наведался редактор издательства «Молодая гвардия» Владимир Сякин, причем он, по собственному признанию, до этого о Шергине не слышал. Каково же было удивление Сякина, когда он, заглянув в рукопись почти слепого писателя, понял, что перед ним текст «поморского Гомера». Это стало не только редкой редакторской удачей для В.В. Сякина, но и началом долгой, до конца жизни обоих литераторов, дружбы. Владимир Сякин, в отличие от более именитых писателей и литературных функционеров, знавших Шергина, помог ему делом: издал книгу и через Союз писателей добился предоставления Борису Викторовичу и его племяннику двух больших и светлых комнат в доме на Рождественском бульваре, в центре Москвы.
Репертуарные фольклорные переработки, с которыми Шергин выступал в военные годы, стали основой сборника «Поморщина-корабельщина», вышедшего в 1946 году и сразу же попавшего в жернова печально известного Постановления Оргбюро ЦК ВКП (б) от 14 августа 1946 г. «О журналах “Звезда” и “Ленинград”». Шергина обвинили в консерватизме, воспевании дореволюционного уклада, «грубой стилизации и извращении народной поэзии». Перед писателем закрылись двери издательств, потянулись годы изоляции от читателей и слушателей, безденежья, нищеты. Именно в это время у Шергина стало резко ухудшаться здоровье, прогрессировать слепота.
Что же помогало Борису Викторовичу не только выживать, но изо дня в день садиться за стол, работать и чувствовать полноту жизни? Ответ на этот вопрос, по сути, проясняет тайну всего московского периода Шергина. Она отражена в дневниках писателя. Только этим потаенным страницам он мог доверить свои размышления о Боге, о русских святых, о православии, об одухотворенной природе, о том, как он «заблуждающийся, претыкающий, недоумевающий, незнающий, несведущий, слепотствующий» черпает силы в молитве. Именно вера давала ему пронзительные «минуты ясности и истинности сознания». «В такие минуты ум становится широким и ясным, мысль дальновидной, – писал Шергин. – Отходил труд калечных ног, не нужны были подслепые глазишки и очки, не нужен стариковский костыль». «…С точки зрения «мира сего», я из тех людей, каких называют «несчастными». Еле брожу, еле вижу… Но я думаю: как много кругом несчастья. Как много бедствующих, болящих… Так мало счастливчиков, в такову печаль упал и лежит род человеческий, особливо сынове российские, что в полку сих страдающих спокойнее быть для совести своей. С плачущими, алчущими, изгнанными, скорбящими… Куда почетнее шествовать путь жития своего, нежели попрыгивать со счастливчиками».
Борис Егоров, биограф и издатель дневников Шергина, считает, что «много тайн у него было. Если б в то время знали, что он об этом пишет, расстреляли бы. Он был категорически против «антихристов», которые разрушили храмы, которые пытались лишить народ православной веры. Жизнь его до сих пор не исследована».
Период забвения закончился в 1957 году, когда по просьбе писателя Алексея Югова в подвал к Шергину наведался редактор издательства «Молодая гвардия» Владимир Сякин, причем он, по собственному признанию, до этого о Шергине не слышал. Каково же было удивление Сякина, когда он, заглянув в рукопись почти слепого писателя, понял, что перед ним текст «поморского Гомера». Это стало не только редкой редакторской удачей для В.В. Сякина, но и началом долгой, до конца жизни обоих литераторов, дружбы. Владимир Сякин, в отличие от более именитых писателей и литературных функционеров, знавших Шергина, помог ему делом: издал книгу и через Союз писателей добился предоставления Борису Викторовичу и его племяннику двух больших и светлых комнат в доме на Рождественском бульваре, в центре Москвы.
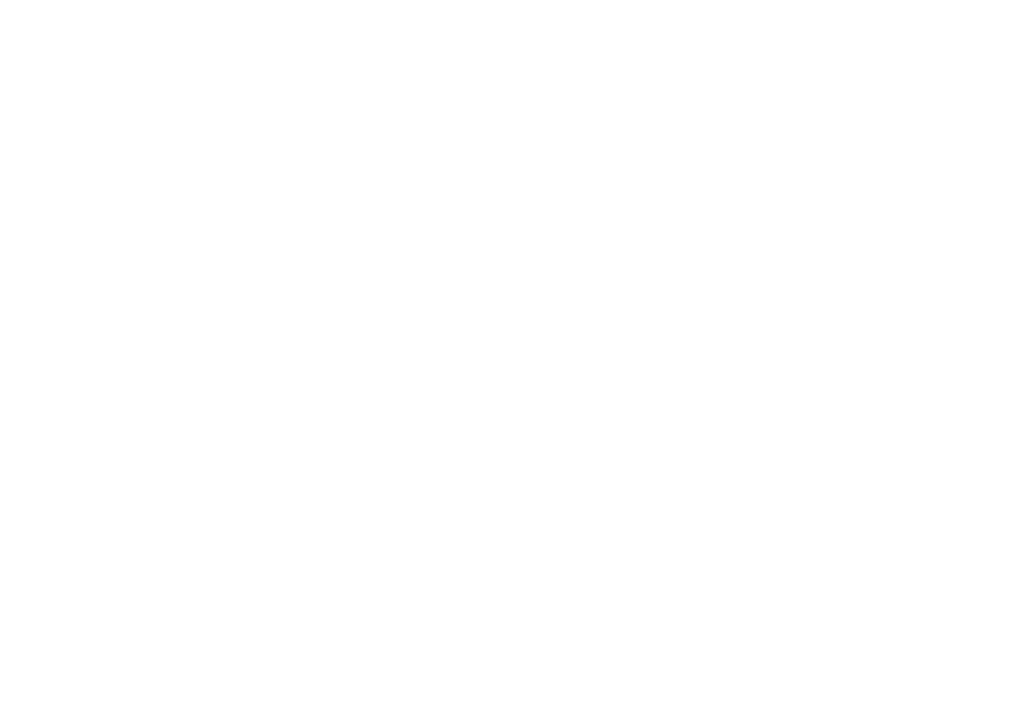
Рассказчик Сеня Малина в образе Евгения Леонова в фильме
«Смех и горе у Белого моря»
«Смех и горе у Белого моря»
Мультипликация как второе рождение
Сегодня кажется очевидным, что режиссеры-мультипликаторы просто не могли пройти мимо сказок Бориса Шергина. Столько в них северорусского колорита, шутовской игры, народной мудрости и щедрой доброты! К сожалению, сам автор, ушедший из жизни в 1973 году, не застал триумфального шествия по экранам страны шедевров поздней советской анимации, созданных режиссером Леонидом Носырёвым и другом Шергина, сценаристом, детским писателем Юрием Ковалем.
По произведения Б. Шергина и С. Писахова были сняты мультфильмы «Не любо – не слушай», «Волшебное кольцо», «Перепилиха», «Архангельские новеллы» и «Поморская быль», в 1988 году собранные в часовой фильм «Смех и горе у Белого моря». Несомненной удачей «северного» цикла Носырёва стало приглашение на роль рассказчика легендарного Евгения Леонова. Именно его черты создатели фильма придали персонажу – Сене Малине, собирательному образу поморских сказителей. Хорошо узнаваемый голос великого актера с удивительной точностью передал торопливую, ритмизованную окающую манеру архангельского речи (говори) и стал классическим образцом фольклорной адаптации.
«В «северном» цикле, – рассказывал режиссер в одном из своих интервью, – мне было важно объединить все фильмы в единое полотно, и я объединил их фигурой сказителя, помором, который сидит в избушке и неторопливо рассказывает сказки, были, былички. Это у поморов действительно было очень распространено: сказителей брали с собой на промысел. В каждом таком походе был необходим человек, который мог бы в тягостные полярные ночи всех развеселить и дух поднять».
По произведения Б. Шергина и С. Писахова были сняты мультфильмы «Не любо – не слушай», «Волшебное кольцо», «Перепилиха», «Архангельские новеллы» и «Поморская быль», в 1988 году собранные в часовой фильм «Смех и горе у Белого моря». Несомненной удачей «северного» цикла Носырёва стало приглашение на роль рассказчика легендарного Евгения Леонова. Именно его черты создатели фильма придали персонажу – Сене Малине, собирательному образу поморских сказителей. Хорошо узнаваемый голос великого актера с удивительной точностью передал торопливую, ритмизованную окающую манеру архангельского речи (говори) и стал классическим образцом фольклорной адаптации.
«В «северном» цикле, – рассказывал режиссер в одном из своих интервью, – мне было важно объединить все фильмы в единое полотно, и я объединил их фигурой сказителя, помором, который сидит в избушке и неторопливо рассказывает сказки, были, былички. Это у поморов действительно было очень распространено: сказителей брали с собой на промысел. В каждом таком походе был необходим человек, который мог бы в тягостные полярные ночи всех развеселить и дух поднять».
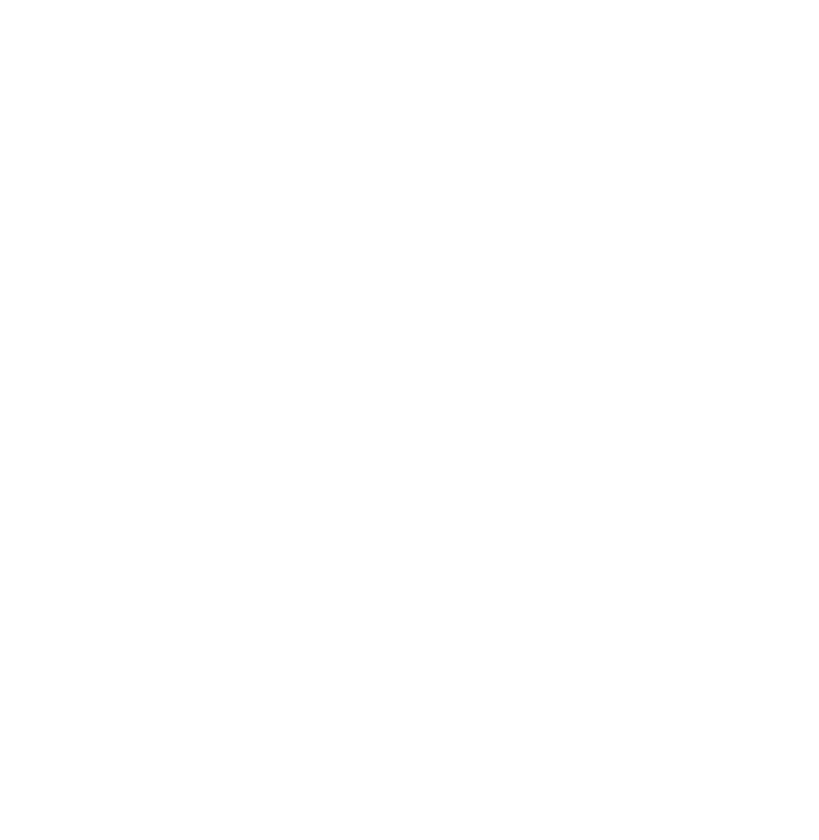
Памятник Б.В. Шергину в Архангельске, скульптор Сергей Сюхин
По сказкам и былинам Бориса Шергина было снято 15 мультфильмов. Пожалуй, мало кто из классиков удостаивался такой чести и благодарности потомков.
Автор: Михаил Умнов, специально для GoArctic

