Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie, и принимаете Политику конфиденциальности и Политику обработки персональных данных.
Виктор Артёмович Богин – ведущий инженер Всероссийского научно-исследовательского института геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика Грамберга. Выпускник геологоразведочного факультета Ленинградского Горного института. Ездит в высокоширотные экспедиции с 2004 года. Руководитель группы геологических исследований на дрейфующей станции «Северный полюс - 41». Занимается техническим обеспечением морского донного пробоотбора. Заслуженный разведчик недр.

Василиса Васильевна Боброва
Полярный морской геолог: «Мне просто нравится Арктика, я к ней привык»
Видеоверсия истории
01.05 – о выборе профессии
02.45 – о знакомстве с Арктикой
05.45 – о работе в Кунсткамере
08.10 – о музейных экспонатах
10.30 – о работе этнографов
15.00 – о северной кухне
19.25 – о молодых специалистах
02.45 – о знакомстве с Арктикой
05.45 – о работе в Кунсткамере
08.10 – о музейных экспонатах
10.30 – о работе этнографов
15.00 – о северной кухне
19.25 – о молодых специалистах
Музыка и этнография
Поступив в 2016 году в Санкт-Петербургский государственный университет, Василиса начала изучать историю оперного искусства. Но после первого курса решила кардинально изменить сферу будущей деятельности и перевелась на кафедру антропологии и этнографии.
«После первого курса все обычно едут в экспедиции – или археологические, или военно-патриотические, или этнографические. Я попала в этнографическую. У нас была экспедиция в Бахчисарай, это был 2016 год. И уже в последние дни экспедиции выяснила, что на кафедре был недобор, нужен был ещё минимум один человек. И я решила – почему бы не попробовать этнографию? И посоветовавшись с родителями, я приняла решение, что это интересно, что я люблю путешествовать. Когда у нас заканчивалась первая экспедиция, я поняла, что мне это очень нравится, что это мое, и дальше как-то вот так пошло по накатанной. И я очень рада такому кульбиту своей судьбы. Что из кабинета я вырвалась в поле. В поле я себя чувствую, как рыба в воде».
Тяга к путешествиям и изучению культуры коренных народов мира Василисе Бобровой передалась от родителей – её мама в своё время работала на Сахалине, а отец – в Танзании, в Африке. Но сама Василиса выбрала Крайний Север.
«В сентябре 2019 года, когда я окончила бакалавриат и поступила в магистратуру, мы как раз выиграли большой проект, по итогам которого издали монографию ˚Питание в Арктике: мобильность, снабжение, инфраструктура˚. Когда мы выиграли, то в сентябре я поехала в Якутию в Анабарский улус. С тех пор я три раза уже туда ездила, кочевала с оленеводами – это самые лучшие воспоминания. И когда первый раз туда приехала – это была не просто моя первая арктическая экспедиция на Крайний Север, это была ещё моя первая одиночная экспедиция. Поехать молодой девушке одной на Крайне Север – это романтично, с одной стороны, но с другой стороны – очень экстремально, есть определенные риски, но мне это очень понравилось, я влюбилась в Север».
«После первого курса все обычно едут в экспедиции – или археологические, или военно-патриотические, или этнографические. Я попала в этнографическую. У нас была экспедиция в Бахчисарай, это был 2016 год. И уже в последние дни экспедиции выяснила, что на кафедре был недобор, нужен был ещё минимум один человек. И я решила – почему бы не попробовать этнографию? И посоветовавшись с родителями, я приняла решение, что это интересно, что я люблю путешествовать. Когда у нас заканчивалась первая экспедиция, я поняла, что мне это очень нравится, что это мое, и дальше как-то вот так пошло по накатанной. И я очень рада такому кульбиту своей судьбы. Что из кабинета я вырвалась в поле. В поле я себя чувствую, как рыба в воде».
Тяга к путешествиям и изучению культуры коренных народов мира Василисе Бобровой передалась от родителей – её мама в своё время работала на Сахалине, а отец – в Танзании, в Африке. Но сама Василиса выбрала Крайний Север.
«В сентябре 2019 года, когда я окончила бакалавриат и поступила в магистратуру, мы как раз выиграли большой проект, по итогам которого издали монографию ˚Питание в Арктике: мобильность, снабжение, инфраструктура˚. Когда мы выиграли, то в сентябре я поехала в Якутию в Анабарский улус. С тех пор я три раза уже туда ездила, кочевала с оленеводами – это самые лучшие воспоминания. И когда первый раз туда приехала – это была не просто моя первая арктическая экспедиция на Крайний Север, это была ещё моя первая одиночная экспедиция. Поехать молодой девушке одной на Крайне Север – это романтично, с одной стороны, но с другой стороны – очень экстремально, есть определенные риски, но мне это очень понравилось, я влюбилась в Север».
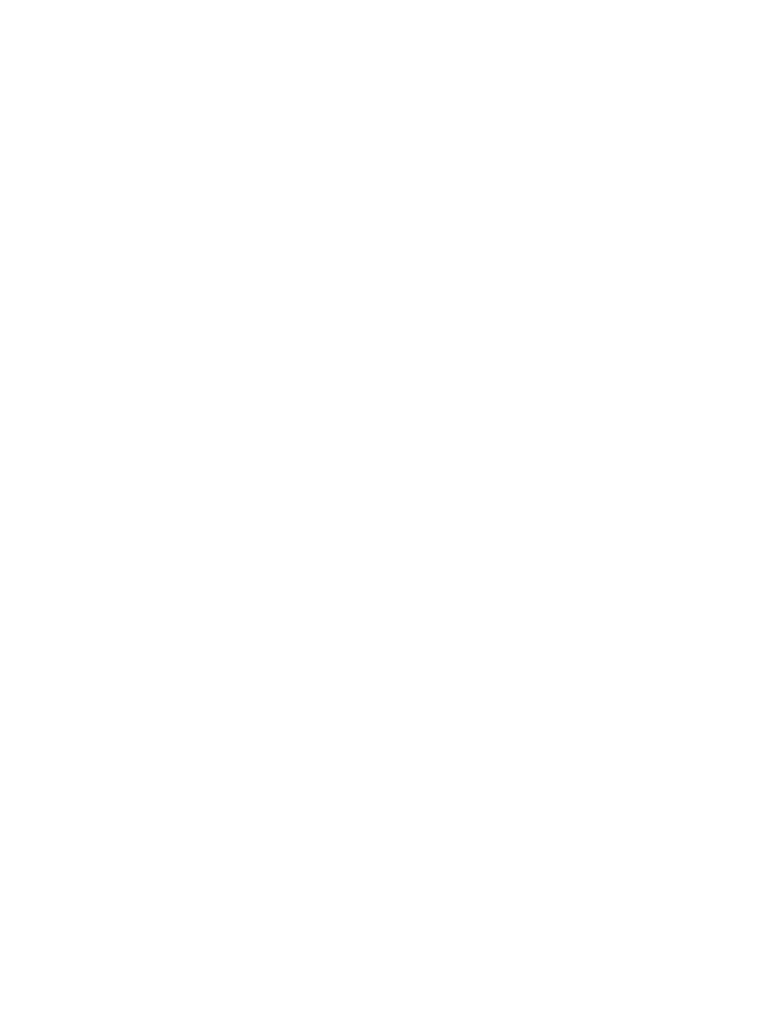
Уже после первой экспедиции Василиса Боброва поняла, что больше не сможет жить без поездок в Арктику. Она на собственном опыте убедилась в справедливости утверждения, что Север затягивает людей.
«Когда я первый раз в 2019-м году вернулась из экспедиции, я прилетела ночью, и утром мне нужно было идти на работу. И на меня так угнетающее действовали дома. На меня так это давило. Я шла и думала: ещё несколько дней назад я шла по тундре, где ничего нет; тундра меня приняла, видимо, и я её тоже. И вот я шла по городу и понимала, что на меня просто угнетающее, давяще действуют эти высокие дома, строения. Я шла и думала: как я хочу обратно! И меня очень долго это не отпускало».
Как для этнографа для Василисы главное – это люди. И Арктика стала тем местом, куда она с удовольствием приезжает ради общения с ними.
«Первое впечатление – когда летела на Ан-24, смотрела на эту бескрайнюю тундру, и просто думала: ˚Какая же невероятная, сложная, экстремальная, но свобода˚. И, конечно, гостеприимство, открытость людей. Как меня встречали, как мне помогали – везде проводят, всё объяснят. Если я говорила, что чего-то не знаю, то они меня вели как ребенка за собой по многим-многим вопросам. Свобода, гостеприимство и уверенность, что тебя не бросят, что с тобой ничего не случится. Здесь иногда в Петербурге бывает идешь и ощущаешь какое-то чувство тревоги, а там – ни разу. Я всегда была уверена, что всё будет хорошо».
«Когда я первый раз в 2019-м году вернулась из экспедиции, я прилетела ночью, и утром мне нужно было идти на работу. И на меня так угнетающее действовали дома. На меня так это давило. Я шла и думала: ещё несколько дней назад я шла по тундре, где ничего нет; тундра меня приняла, видимо, и я её тоже. И вот я шла по городу и понимала, что на меня просто угнетающее, давяще действуют эти высокие дома, строения. Я шла и думала: как я хочу обратно! И меня очень долго это не отпускало».
Как для этнографа для Василисы главное – это люди. И Арктика стала тем местом, куда она с удовольствием приезжает ради общения с ними.
«Первое впечатление – когда летела на Ан-24, смотрела на эту бескрайнюю тундру, и просто думала: ˚Какая же невероятная, сложная, экстремальная, но свобода˚. И, конечно, гостеприимство, открытость людей. Как меня встречали, как мне помогали – везде проводят, всё объяснят. Если я говорила, что чего-то не знаю, то они меня вели как ребенка за собой по многим-многим вопросам. Свобода, гостеприимство и уверенность, что тебя не бросят, что с тобой ничего не случится. Здесь иногда в Петербурге бывает идешь и ощущаешь какое-то чувство тревоги, а там – ни разу. Я всегда была уверена, что всё будет хорошо».
Кунсткамера
В том же 2019 году Василиса, ещё будучи студенткой, начала работать в Музее этнографии и антропологии имени Петра Великого (Кунсткамере) Российской академии наук.
«Меня с улицы практически взяли, я устроилась на работу, еще учась на бакалавриате. Мой первый рабочий день – 1 апреля 2019 года. Мне предложили попробовать себя в качестве хранителя фонда этнографии Сибири. Это сложно, когда ты на 4-м курсе, пишешь диплом, готовишься к защите, переживаешь о том, как дальше устроится судьба. Все-таки у нас специальность обширная, но не так много мест, куда можно устроиться на работу. Есть определенные сложности, кто-то решает не связывать свою дальнейшую судьбу с этнографией, кто-то, наоборот, этим горит. Поэтому, когда мне предложили, я ответила согласием – была очень рада прийти сюда на работу, и в общем-то, не жалею об этом».
Сейчас Василиса Боброва – старший хранитель фонда «Сибирь» и стажёр-исследователь Отдела этнографии Сибири.
«Меня с улицы практически взяли, я устроилась на работу, еще учась на бакалавриате. Мой первый рабочий день – 1 апреля 2019 года. Мне предложили попробовать себя в качестве хранителя фонда этнографии Сибири. Это сложно, когда ты на 4-м курсе, пишешь диплом, готовишься к защите, переживаешь о том, как дальше устроится судьба. Все-таки у нас специальность обширная, но не так много мест, куда можно устроиться на работу. Есть определенные сложности, кто-то решает не связывать свою дальнейшую судьбу с этнографией, кто-то, наоборот, этим горит. Поэтому, когда мне предложили, я ответила согласием – была очень рада прийти сюда на работу, и в общем-то, не жалею об этом».
Сейчас Василиса Боброва – старший хранитель фонда «Сибирь» и стажёр-исследователь Отдела этнографии Сибири.
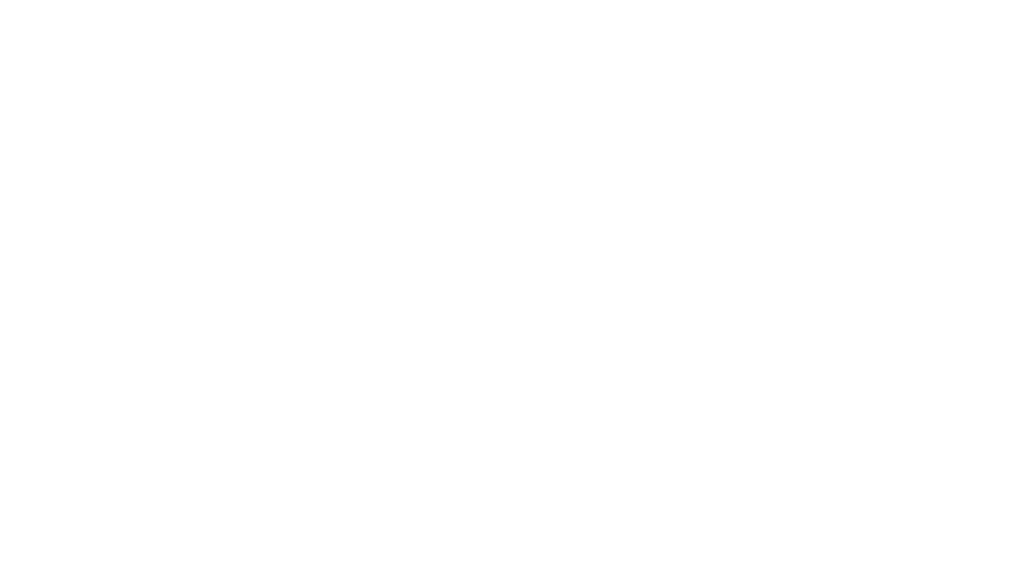
«Работа хранителя заключается в сохранении национального достояния народов Российской Федерации. У нас в музее хранятся старейшие коллекции этнографии народов Севера Сибири и Дальнего Востока. Наш фонд насчитывает более 37 тысяч единиц хранения, это довольно-таки много, и у нас представлены многие уникальнейшие экспонаты, которых нет в других музеях. И наша работа – следить за этими экспонатами, сохранять их, работать с ними, описывать, атрибутировать. В том числе это работа и научных сотрудников для того, чтобы лучше понимать другие культуры, и я бы даже сказала, лучше понимать самих себя».
В фондах музея – многие тысячи экспонатов, но в экспозициях выставлена очень малая их часть. Зато они всемирно известны.
«Это эвенкийская маскоид – из тех экспонатов, которые объездили весь мир. Последняя выставка, куда она ездила, была в 21-м году в Великобритании. И у нас еще в 21-м году ездил костюм Костеркина [Тубяку Костеркин – нганасанский шаман из рода Нгамтусуо, жил на Таймыре в посёлке Усть-Авам – прим. редакции], но не этот, а другой. И он уникален тем, что Костеркин, когда передавал его для выставки, снял с костюма всех духов-помощников. У нас коллеги из Британского музея спрашивали, как часто нужно ῝кормить῝ костюм, чтобы духи не стали баловать. Мне кажется, они их перекормили, потому что когда привезли эту выставку, то через неделю начался COVID, всё закрыли, нам эту выставку продлили, но музей был закрыт, и в общем, там было столько всего».
Фонды музея пополняются регулярно. Многие экспонаты привозят сюда сами сотрудники из своих экспедиций. И для этого им не обязательно искать старинные предметы. Экспонатом может стать почти любая вещь.
«Считают, что экспонат – это должно быть что-то очень древнее, даже палеоархеологическое – с XVIII века, а то и дальше. Но на самом деле это не совсем так, потому что время идет, культура меняется, происходят изменения, и эти изменения нужно фиксировать в режиме реального времени. И поэтому в том числе, это моя точка зрения, есть вещи, которые нужно собирать сейчас, потому что сейчас кажется, что этих вещей много, они есть на каждом шагу, а пройдет какой-то промежуток времени, и окажется, что этого уже нет».
В фондах музея – многие тысячи экспонатов, но в экспозициях выставлена очень малая их часть. Зато они всемирно известны.
«Это эвенкийская маскоид – из тех экспонатов, которые объездили весь мир. Последняя выставка, куда она ездила, была в 21-м году в Великобритании. И у нас еще в 21-м году ездил костюм Костеркина [Тубяку Костеркин – нганасанский шаман из рода Нгамтусуо, жил на Таймыре в посёлке Усть-Авам – прим. редакции], но не этот, а другой. И он уникален тем, что Костеркин, когда передавал его для выставки, снял с костюма всех духов-помощников. У нас коллеги из Британского музея спрашивали, как часто нужно ῝кормить῝ костюм, чтобы духи не стали баловать. Мне кажется, они их перекормили, потому что когда привезли эту выставку, то через неделю начался COVID, всё закрыли, нам эту выставку продлили, но музей был закрыт, и в общем, там было столько всего».
Фонды музея пополняются регулярно. Многие экспонаты привозят сюда сами сотрудники из своих экспедиций. И для этого им не обязательно искать старинные предметы. Экспонатом может стать почти любая вещь.
«Считают, что экспонат – это должно быть что-то очень древнее, даже палеоархеологическое – с XVIII века, а то и дальше. Но на самом деле это не совсем так, потому что время идет, культура меняется, происходят изменения, и эти изменения нужно фиксировать в режиме реального времени. И поэтому в том числе, это моя точка зрения, есть вещи, которые нужно собирать сейчас, потому что сейчас кажется, что этих вещей много, они есть на каждом шагу, а пройдет какой-то промежуток времени, и окажется, что этого уже нет».
Экспедиции
У Василисы есть своя личная небольшая коллекция предметов культуры и быта северных народов. Но сбор экспонатов для этнографа – это не основная цель. Куда важнее живое общение с людьми.
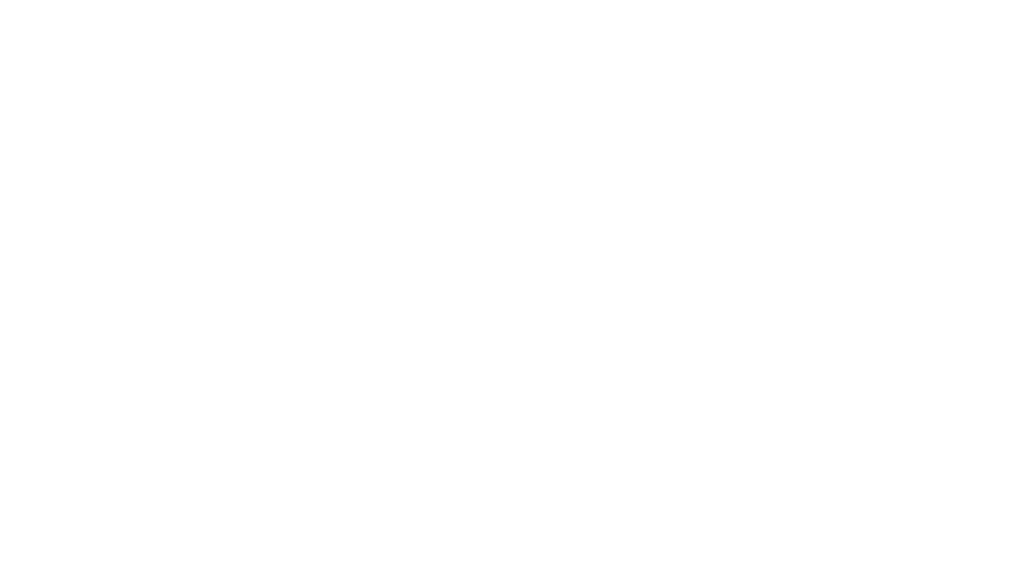
«Ты приезжаешь к людям, чтобы узнать, чем они живут. Не просто глобально, а что занимает их мысли каждый день. Какие у них трудности, какие перед ними встают задачи, что они должны решать, чтобы у них всё было благополучно. Этнограф раскрывает людей для мира. Показывает людям их самих же, по сути. Рассказывает, что несмотря на то, что мы разные, нас всех занимают одинаковые вопросы, которые каждый решает по-разному силу обстоятельств».
«Наша задача — рассказывать и объяснять это людям, потому что у нас огромная страна, очень интересная, многогранная, и мы все разные, но мы всё равно все едины в наших границах, в наших общих интересах, и мы должны с уважением относиться друг к другу и к культуре каждого. И чтобы было на чем уважение формировать, нужно людям объяснять, что нельзя придерживаться только одной точки зрения и считать, что вот я прав, а ты не прав, потому что у нас есть культурные различия, к примеру».
Василиса рассказывает о коренных малочисленных народах Севера не только в своих научных работах, но и на лекциях, которые регулярно проводит для школьников.
«На Севере существует три основных традиционных промысла. Это оленеводство, охота и рыболовство. Суровые условия Севера: суровый климат и полярная ночь, которая длится несколько месяцев, – всё это очень сильно влияет на человека и на его здоровье. И, соответственно, цель нашего проекта – это изучение изменения диеты местных жителей и то, как питание влияет на их физиологию, культуру, историю. Потому что, вообще, кухня – это, пожалуй, единственный язык в мире, который не требует никакого перевода. Мы все любим вкусно поесть. И нам не важно, чья это будет кухня, китайская, якутская, корейская, французская, итальянская. Если блюдо вкусное, для него не нужно никаких слов».
«Наша задача — рассказывать и объяснять это людям, потому что у нас огромная страна, очень интересная, многогранная, и мы все разные, но мы всё равно все едины в наших границах, в наших общих интересах, и мы должны с уважением относиться друг к другу и к культуре каждого. И чтобы было на чем уважение формировать, нужно людям объяснять, что нельзя придерживаться только одной точки зрения и считать, что вот я прав, а ты не прав, потому что у нас есть культурные различия, к примеру».
Василиса рассказывает о коренных малочисленных народах Севера не только в своих научных работах, но и на лекциях, которые регулярно проводит для школьников.
«На Севере существует три основных традиционных промысла. Это оленеводство, охота и рыболовство. Суровые условия Севера: суровый климат и полярная ночь, которая длится несколько месяцев, – всё это очень сильно влияет на человека и на его здоровье. И, соответственно, цель нашего проекта – это изучение изменения диеты местных жителей и то, как питание влияет на их физиологию, культуру, историю. Потому что, вообще, кухня – это, пожалуй, единственный язык в мире, который не требует никакого перевода. Мы все любим вкусно поесть. И нам не важно, чья это будет кухня, китайская, якутская, корейская, французская, итальянская. Если блюдо вкусное, для него не нужно никаких слов».
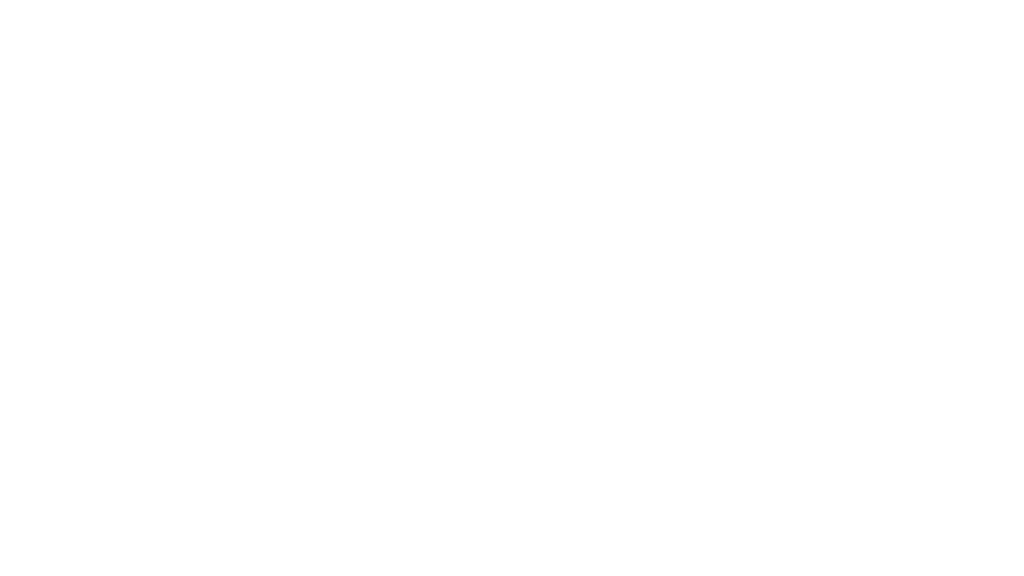
Василиса предпочитает ездить в арктические экспедиции одна. На первый взгляд, это выглядит довольно экстремально, но на самом деле этому есть вполне разумное объяснение.
«В этнографической экспедиции толпа не нужна, потому что, когда много народу приходит брать интервью, это немножечко смущает людей. Поэтому два человека – это прекрасно, максимум – три человека. Это, я считаю, отличное число людей для экспедиции. Ставится цель определённая, что именно ты собираешься исследовать. Пишутся опросники, пишутся гайды интервью. И со временем ты уже знаешь и понимаешь, что тебе нужно сделать, какие нужно предпринять шаги, какие будешь задавать вопросы – это становится гораздо легче. Главное – подготовиться, чтобы были какие-то контакты на случай чего, и собрать экипировку. Это очень важно – собрать правильную одежду, чтобы просто не замерзнуть».
«В этнографической экспедиции толпа не нужна, потому что, когда много народу приходит брать интервью, это немножечко смущает людей. Поэтому два человека – это прекрасно, максимум – три человека. Это, я считаю, отличное число людей для экспедиции. Ставится цель определённая, что именно ты собираешься исследовать. Пишутся опросники, пишутся гайды интервью. И со временем ты уже знаешь и понимаешь, что тебе нужно сделать, какие нужно предпринять шаги, какие будешь задавать вопросы – это становится гораздо легче. Главное – подготовиться, чтобы были какие-то контакты на случай чего, и собрать экипировку. Это очень важно – собрать правильную одежду, чтобы просто не замерзнуть».
Северная кухня
А ещё – одному человеку гораздо легче погрузиться в обособленную этнокультурную среду. Ведь когда Василиса приезжает в Арктику, она не остаётся сторонним наблюдателем, а становится полноценной частью общины, в которой проводит свои исследования.
«К нам приезжали наши соседи из других стойбищ, и мы их встречали традиционным долганским супом. Это суп из потрохов. Там немножко макарон, вермишели, какой-нибудь лук, это такое традиционное, прямо долганское. И ты в этот момент не ощущаешь себя как исследователь, потому что вы все живёте вместе, спите спина к спине, вместе просыпаетесь, садитесь на снегоход, едете в тундру, собираете оленей, потому что за ночь они ушли от стойбища, подкармливаете их комбикормом, просто ходите, гуляете, готовите кушать, моете посуду. То есть ты постоянно что-то делаешь, ты живешь с ними в одном ритме, ты не смотришь на это со стороны, ты в этом живешь, ты в этом находишься. И у меня самые теплые воспоминания про это».
«К нам приезжали наши соседи из других стойбищ, и мы их встречали традиционным долганским супом. Это суп из потрохов. Там немножко макарон, вермишели, какой-нибудь лук, это такое традиционное, прямо долганское. И ты в этот момент не ощущаешь себя как исследователь, потому что вы все живёте вместе, спите спина к спине, вместе просыпаетесь, садитесь на снегоход, едете в тундру, собираете оленей, потому что за ночь они ушли от стойбища, подкармливаете их комбикормом, просто ходите, гуляете, готовите кушать, моете посуду. То есть ты постоянно что-то делаешь, ты живешь с ними в одном ритме, ты не смотришь на это со стороны, ты в этом живешь, ты в этом находишься. И у меня самые теплые воспоминания про это».
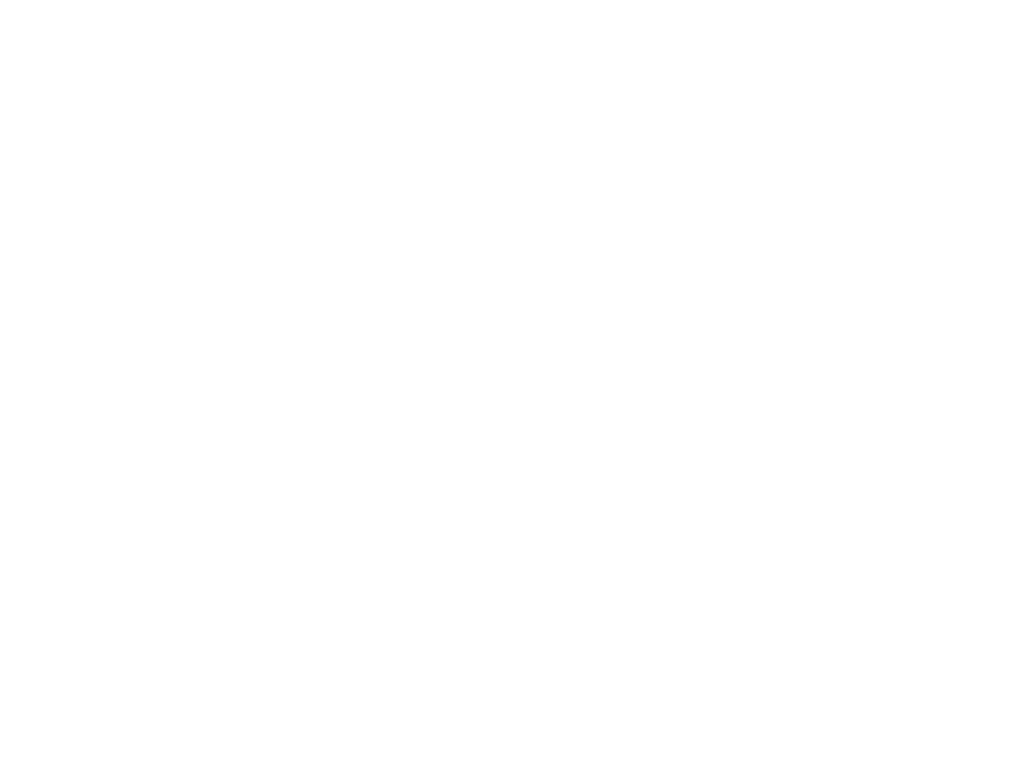
Одна из основных тем, которую Василиса изучала в Заполярье во время работы в проекте Российского научного фонда «Питание в Российской Арктике: ресурсы, технологии и инновации» – это арктическая гастрономия. В наш век глобализации и развитой транспортной инфраструктуры национальная кухня северных народов претерпела серьёзные изменения. У местных жителей довольно сильно изменился рацион.
«Конкретно в той поездке сразу было две цели – это питание и оленеводство. Грубо говоря – режим оленеводов, как они аргишат, как они работают с оленями, как они за ними смотрят. И это перекликалось с проектом по этнокультурным ландшафтам оленеводческих народов России. И как раз я там отпраздновала Новый год 2024-ый, в поселке Юрюнг-Хая, и это тоже было отражено в нашей коллективной монографии по питанию. Стол очень богатый, красивый, и он вперемешку с русскими, европейскими блюдами, с блюдами азиатской кухни, но только на свой, местный лад, и с традиционной кухней. И здесь вопрос вкусового восприятия, изменения формирования вкуса. Я заметила, что дети, например, больше предпочитали европейскую и азиатскую кухню, в то время как взрослые, наоборот, больше отдавали предпочтение национальным блюдам».
«Конкретно в той поездке сразу было две цели – это питание и оленеводство. Грубо говоря – режим оленеводов, как они аргишат, как они работают с оленями, как они за ними смотрят. И это перекликалось с проектом по этнокультурным ландшафтам оленеводческих народов России. И как раз я там отпраздновала Новый год 2024-ый, в поселке Юрюнг-Хая, и это тоже было отражено в нашей коллективной монографии по питанию. Стол очень богатый, красивый, и он вперемешку с русскими, европейскими блюдами, с блюдами азиатской кухни, но только на свой, местный лад, и с традиционной кухней. И здесь вопрос вкусового восприятия, изменения формирования вкуса. Я заметила, что дети, например, больше предпочитали европейскую и азиатскую кухню, в то время как взрослые, наоборот, больше отдавали предпочтение национальным блюдам».
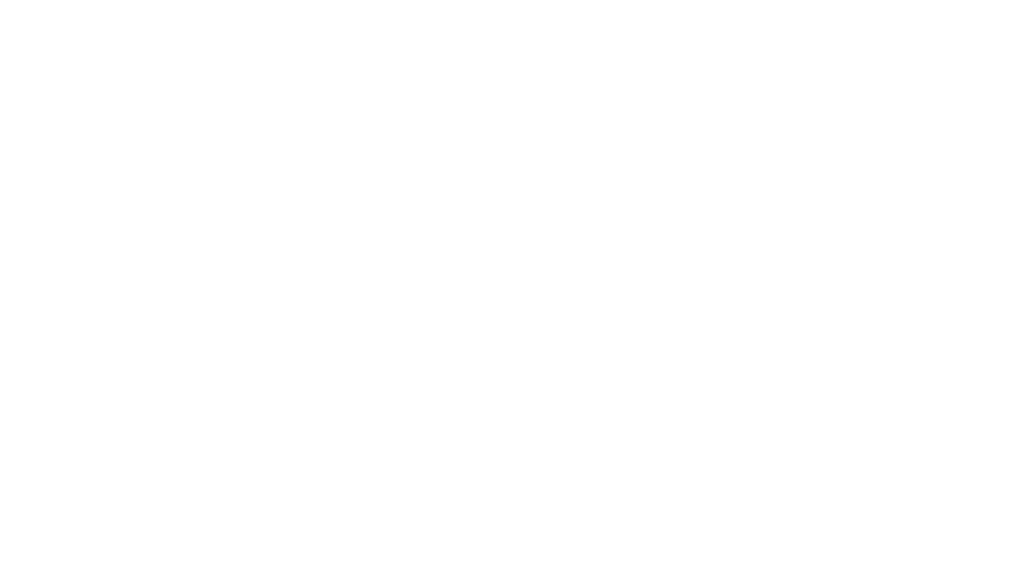
Северные народы стали употреблять больше сладкого и мучного, поскольку доступность таких продуктов стала выше. Как следствие, появились и новые для них заболевания, связанные с лишним весом.
«Есть целые циклы исследований, в которых пишут по поводу того, что увеличение углеводов негативно сказывается на традиционной диете. Это, кстати, можно проследить не только по народам Севера, но и в целом по миру. Про это, например, делала доклад Всемирная организация здравоохранения – что в целом масса [вес среднестатистического человека – прим. ред.] увеличилась. Конечно, очень высокое потребления сахара, сладкого, мучных изделий. Это действительно так. Я даже на собственном опыте могу сказать, что когда ты в полярную ночь, в мороз минус 63 градуса заходишь с улицы, то единственное, чего тебе хочется – это горячего сладкого чая с молоком. Ты не можешь остановиться».
«Есть целые циклы исследований, в которых пишут по поводу того, что увеличение углеводов негативно сказывается на традиционной диете. Это, кстати, можно проследить не только по народам Севера, но и в целом по миру. Про это, например, делала доклад Всемирная организация здравоохранения – что в целом масса [вес среднестатистического человека – прим. ред.] увеличилась. Конечно, очень высокое потребления сахара, сладкого, мучных изделий. Это действительно так. Я даже на собственном опыте могу сказать, что когда ты в полярную ночь, в мороз минус 63 градуса заходишь с улицы, то единственное, чего тебе хочется – это горячего сладкого чая с молоком. Ты не можешь остановиться».
Молодеющая профессия
Сейчас Василиса собирает материалы для свой кандидатской диссертации. Для неё каждая поездка – это возможность узнать что-то новое. Не просто найти данные для своих научных работ, но и понять какие-то важные вещи для себя самой.
«Для меня вообще любая экспедиция, общение с людьми в поле – это всегда открытие, я всегда с открытым сердцем, со всей душой это принимаю, поэтому в плане науки, мне кажется, всегда есть место открытию, просто где-то это будет громкое открытие, а где-то – именно для себя. Я в настоящее время больше открываю для себя, но и в своих работах я стараюсь это тоже отразить, потому что, опять же повторюсь, не все знают то, что нас происходят в регионах».
«Для меня вообще любая экспедиция, общение с людьми в поле – это всегда открытие, я всегда с открытым сердцем, со всей душой это принимаю, поэтому в плане науки, мне кажется, всегда есть место открытию, просто где-то это будет громкое открытие, а где-то – именно для себя. Я в настоящее время больше открываю для себя, но и в своих работах я стараюсь это тоже отразить, потому что, опять же повторюсь, не все знают то, что нас происходят в регионах».
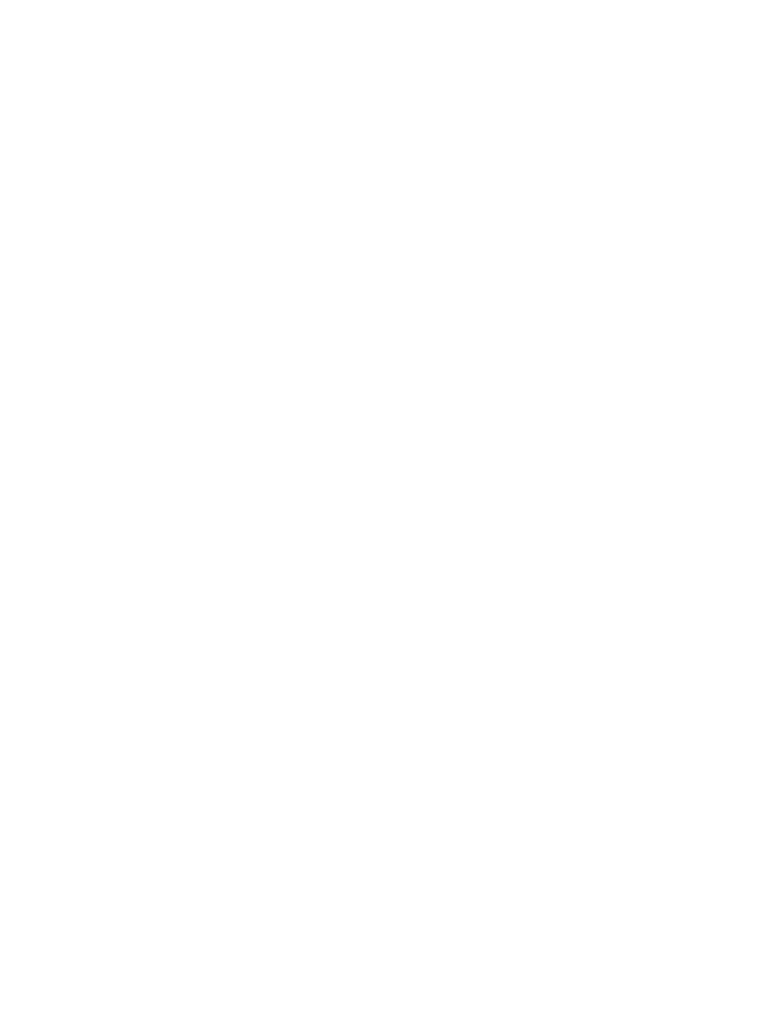
Кажется, что собирателями традиций могут быть только взрослые и умудрённые опытом люди. Но в действительности среди этнографов очень много молодых специалистов.
«У меня очень много молодых моих коллег в Кунсткамере, которые ездят за полярный круг, работают. И на самом деле это очень круто, что много молодежи, потому что нам есть о чём друг с другом поговорить. И когда мы встречаемся на конференциях, мы делимся, какая у кого была работа в полях. И пока есть вкус к жизни, вкус к полю, пока мы не стали толстыми котами, которые уже всё видели, всё знают и которые уже ничему не удивляются, это очень хорошо».
Это ещё раз доказывает, что несмотря на свою труднодоступность Арктика открыта для всех. И чтобы найти в ней своё место, нужно всего лишь соблюдать несколько простых правил.
«У меня очень много молодых моих коллег в Кунсткамере, которые ездят за полярный круг, работают. И на самом деле это очень круто, что много молодежи, потому что нам есть о чём друг с другом поговорить. И когда мы встречаемся на конференциях, мы делимся, какая у кого была работа в полях. И пока есть вкус к жизни, вкус к полю, пока мы не стали толстыми котами, которые уже всё видели, всё знают и которые уже ничему не удивляются, это очень хорошо».
Это ещё раз доказывает, что несмотря на свою труднодоступность Арктика открыта для всех. И чтобы найти в ней своё место, нужно всего лишь соблюдать несколько простых правил.
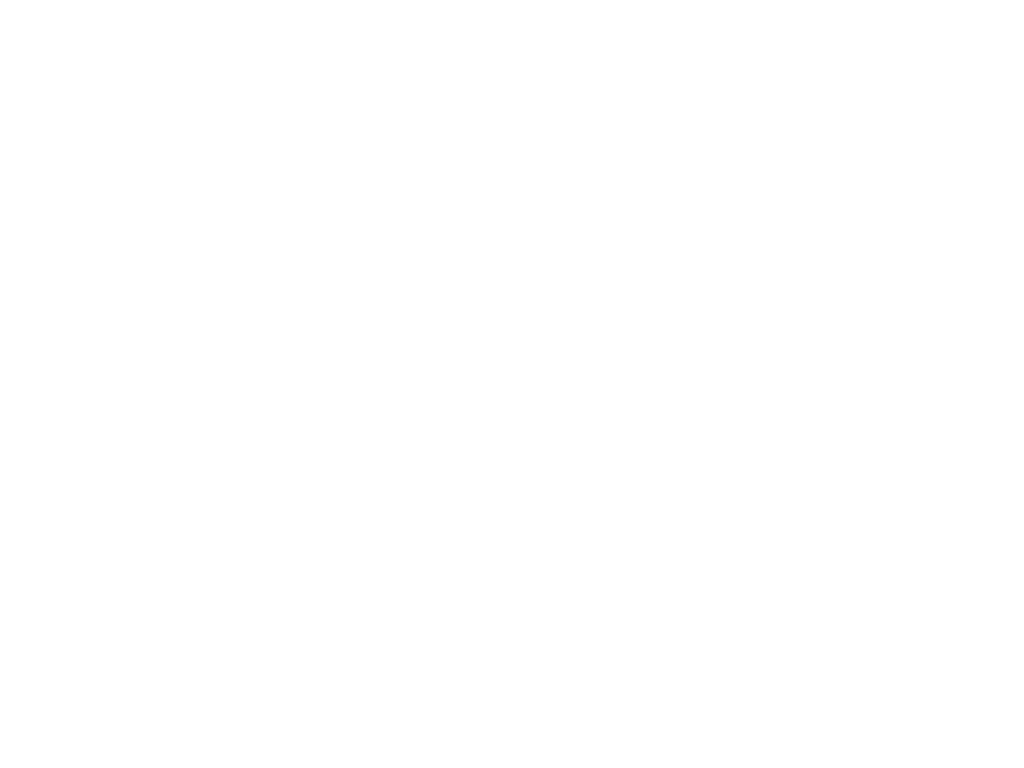
«Ехать с открытым сердцем, тепло одеваться – это прописная истина. И, пожалуй, любить Север, любить Арктику и любить то дело, которое ты делаешь для того, чтобы полностью погрузиться в это поле, понять и прочувствовать Север, и чтобы поле тебя приняло. Если тебя примет Север, то ты счастливчик».
Благодарим за помощь в организации съёмок Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН (Кунсткамера), г. Санкт-Петербург
Благодарим за помощь в организации съёмок Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН (Кунсткамера), г. Санкт-Петербург
Максим Упиров,
специально для GoArctic
19 сентября 2025
специально для GoArctic
19 сентября 2025
ГЕРОИ

